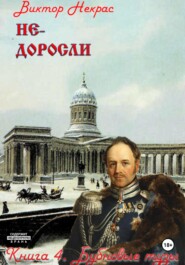По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мальчики из провинции
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Прийти, конечно было надо. Обычай такой.
Влас искоса глянул на девчонку – она смотрела как обычно, с лёгкой хитринкой во взгляде. Не поймёшь, то ль и правда отец ей чего наказал, то ль сама выдумала.
Выдумала, не выдумала, а котляну её отец и впрямь собирал. И показаться, конечно, было надо.
– Можно подумать, котляна двух зуйков не прокормит, – пробурчал, подымаясь на ноги, Влас. – Пошли, покажусь отцу твоему.
Акулина легко пробежала по берегу, прыгая с камня на камень над поросшим редкой травой песком («Коза», – усмехнулся про себя Влас), соскочила на мостовины – широкие плахи из расколотых вдоль брёвен, уложенные на поперечные лаги – из щелей между мостовинами пучками торчала трава. Обернулась к Власу – тот не спеша шел следом, топча траву и песок тяжёлыми броднями тюленьей кожи. Обернулась – и мальчишка на мгновение остановился.
Закат отгорел, солнце скрылось за поросшей густым сосняком каменной грядой. Только багровая полоса резко очерчивала корявые скалы и валуны, отделяя их от прозрачно-бледного северного неба, низко нависшего над серебристой водой. А в закате замерла девичья фигурка – плотно облегший сарафан, рубаха с широкими рукавами, коса в руку толщиной – ничего этого не было видно, только точёные обводы в тяжёлом пламени вечерней зари.
– Ты чего там, заснул? – весело окликнула Акулька, но Влас только вздрогнул, словно и впрямь просыпаясь, и прибавил шагу. Полагалось отшучиваться, но он не умел.
И не любил.
Дом Акулины большой, с крытым двором, жи?ло, двор и стая под одной кровлей – ко?шель. В таких домах вокруг жило много народу, в Онежском гнезде – больше половины. Да и Смолятины, семья Власа – тоже, невзирая на своё дворянство. Недавно, впрочем, заслуженное.
В волоковых оконцах летней горницы, отволочённых по весенней поре, виден был тусклый пляшущий свет лучин, метались тени, слышались голоса. И впрямь, похоже, пирует Спиридон Елпидифорыч, – отметил про себя Влас, подходя мимо взвоза к высокому крыльцу. Краем глаза отметил свежие выщербины настила на взвозе – совсем недавно то ли что-то ввозили на поветь[9 - Поветь – нежилая пристройка к северной избе сзади над хлевом, для хранения корма для скота или инвентаря. На поветь обычно вёл бревенчатый настил, по которому въезжали на возу – взвоз.], то ли наоборот, вывозили. Сети вынимали, не иначе, – догадался мальчишка, и тут же эти сети увидел – растянутые с места на шест, они висели вдоль речного берега – в Онеге по-прежнему селились северным побытом, камницей, – ни улиц, ни заплотов, дома стоят как душе любо. Не Архангельск всё же, хоть и велено считаться городом ещё при Екатерине Алексеевне.
Крыльцо под ногой не скрипнуло ни единой ступенькой – плотно пригнанные плахи не шелохнулись ни под шагами Власа, ни, тем паче, под лёгонькими выступками Акулины. На крыльце, привалясь косматым боком к резному баляснику[10 - Балясник – перила.], лежал здоровый пёс. Заслышав незнакомые шаги, он заворчал, приоткрыл глаза, но тут же признал Власа и ворчание стихло. Пёс несколько раз лениво ударил толстым косматым хвостом по половицам и вновь закрыл глаза.
– Ну, пошли, чего стал? – нетерпеливо позвала Акуля. – Молчана боишься, что ли?
Нет, Молчана он не боялся. За два лета, которые Влас отработал у Акулининого отца зуйком, они с псом привыкли друг к другу, и, захоти Смолятин обокрасть купца, Молчан бы, пожалуй даже не гавкнул, пока мальчишка лазил бы в сусеки и рыбные лабазы.
В просторных сенях было почти темно, только слабый сумеречный свет сочился в прорубленное в стене окошко, затянутое бычьим пузырём. Угадывалось в полутьме что-то огромное, словно из жердей сопряжённое.
– Осторожнее, – негромко предупредила в темноте Акуля. Она была где-то рядом, шуршал сарафан, и от этого шуршания и от её близости Власа вдруг обдало жаром, стало не по себе. Вдруг представилось… такое представилось, что и ни в какие ворота не лезло. – Не споткнись, тут кросна стоят, их сегодня только из дому выставили, да не разобрали. Да столы красильные.
Спиридон старался не упустить никакой возможности разбогатеть. Летом ходил в море, водил артель из родни, вербовал покрутчиков, гарпунил зверя, ловил и солил рыбу, возил в норвеги архангельский хлеб… многим находилось дело в широком хозяйстве онежского купца. Зимой весь огромный дом Спиридона заполняли прялки, кросна и красильные столы – девки и бабы пряли, ткали и красили ткани, наводя резными досками печатный узор на льнах.
Налететь в темноте на громоздкие кросна и впрямь было невеликой удачей. Чувствуя, что щёки его начинают пылать, Влас ощупью пробирался через сени, а в голове стучало – а ну как под эту ощупь сейчас Акулька попадётся…
Дверь распахнулась, из жила сладко пахнуло в сени запахом горячего хлеба, браги, жареной и варёной баранины, солёной и печёной рыбы – треска, камбала, палтус. Вместе с запахами пролился в сени и тусклый свет. Смолятин облегчённо вздохнул – Акулина стояла уже около самой двери, почти на пороге. Но от взгляда, который девчонка на него метнула, кровь опять ещё сильнее прилила к щекам.
– Батюшка, он пришёл! – крикнула Акулина через плечо в горницу, всё ещё призывно глядя на мальчишку, потом крутанулась так, что сарафан взвился парусом, и скрылась где-то в глубине избы.
В горнице было душно. От печи, топленной с утра, всё ещё тянуло жаром. За длинным столом – пятеро мужиков, уже изрядно выпивших, на столе – бутылки и крынки, резные деревянные блюда. В красном углу, под тяблом с потемнелыми от времени ликами старого письма – хозяин. Широкоплечий, стриженный в кружок, мужик в красной рубахе, в жилетке серого сукна наопашь, с широкой, опрятной бородой. В распахнутом вороте рубахи мечется серебряный крестик на посконном гайтане.
– Аааа, – протянул Спиридон, увидев Смолятина. Влас остановился, настигнутый внезапной робостью, за которую немедля на себя разозлился. – Власий! Проходи, проходи!
– Здорово ль ваше здоровье на все четыре ветра? – выговорил Влас, подходя ближе к столу и стараясь держать голову выше. Не холоп ты! И не простой покрутчик!
– Здорово, здорово, Власе, – хмель со Спиридона сползал клочьями, словно обмороженная или ошпаренная кожа, глаза уже глядели трезво и умно. – Ну что, пойдёшь нынче с нами в море? Или мне другого зуйка искать?
– А это уж твоё дело, Спиридоне Елпидифорыч, искать или нет, – недрогнувшим голосом сказал Смолятин. – В море пойду, коль возьмёшь… на прежних условиях. Почти прежних…
– Почти? – непонимающе переспросил купец, вцепляясь в него взглядом. – Почему – почти?
– Не на всё лето, – сглотнув, ответил Влас, стараясь изо всех сил глядеть прямо. – На пару месяцев. До Иванова дня.
– А потом?
– А потом… потом мне в Питер надо, – твёрдо ответил Смолятин, выпрямляясь.
– Мы на Матку пойдём, – напомнил Спиридон, насмешливо улыбаясь самыми уголками губ. Улыбка терялась в его густой тёмно-русой бороде, густо побитой сединой. – Не воротимся до осени, никак до Покрова даже. Ты как воротиться собрался?
– Ну так за рыбой да ворванью же шхуна придёт! – возразил Влас. – Как раз на Ивана! С ними и ворочусь!
– Орёл, – одобрительно сказал Спиридон, довольно косясь на сидящих за столом мужиков. Они притихли, и Влас вдруг понял – это старшие котлян Спиридоновой а?рабы[11 - А?раба – большая артель, состоящая из нескольких котлян.].
Спиридон вдруг довольно выпятил голову и покосился на старших. Выхваляется, сука, – понял вдруг Смолятин, гневно раздувая ноздри. – Гляди, мол, мужики, как дворянин ко мне зуйкомкрутится!
Впрочем, купец, глядя на Смолятина, почти тут же понял, что слегка пересолил и сменил тон.
– А отец твой что на то скажет? – озабоченно спросил он. – Я слышал, он нынче вовсе не хотел, чтобы ты в море ходил. Успеешь ли в Питер-то, с Иванова дня?
На короткое мгновение Влас засомневался – а ну, как и впрямь опоздает? Но почти тут же отбросил сомнения.
– Успею, – решительно сказал он. – А отец нынче в Архангельске. Не запретит.
2
Логгин Смолятин служил на Беломорской флотилии, мичманом на шестнадцатипушечном бриге «Новая земля». Быть в мичманах на середине пятого десятка – невелика заслуга. И сколь велика, если знать, что до того, как стать мичманом, много лет прослужил онежанин Логгин Смолятин сначала матросом на Балтике, потом боцманом… ходил во Вторую Архипелагскую экспедицию, бился и с турками, и с французами на Ионических островах. И только в битве у Афонской горы, когда адмирал Сенявин в пух и прах разнёс в полтора раза сильнейшую по орудиям турецкую эскадру капудан-паши Сейид-Али, Логгин стал офицером.
«За храбрость при абордировании турецкого флагмана», – любил повторять, подвыпив, отец.
Впрочем, скоро оказалось, что быть храбрым в бою – мало для того, чтобы стать на равной ноге с офицерами. Про то, как его встретили в Питере, отец предпочитал молчать. Равно как и про то, почему и как он попал служить на Беломорье. Должно быть, кто-то наверху, какой-нибудь слизняк в золотых позументах, задвинул офицера-простолюдина подальше от Балтики, чтоб не мозолил глаза адмиралам, привыкшим плавать по Маркизовой луже. На Белое море его, благо он сам оттуда. И поехал мичман Смолятин служить в Архангельск, ближе к родным местам, к родине своей и жены.
Влас тоже родился здесь, на Онеге.
Отца видел только зимами – каждое лето отец пропадал в Архангельске, но по большей части, на береговой службе. А после того, как пять лет назад Андрей Курочкин на Соломбале построил для Беломорья новый бриг, отца, наконец, взяли и в экипаж.
Мичманом.
В сорок лет.
Отец не обижался.
Служба важнее личных обид, – сказал он однажды сыновьям. Влас согласился – он готов был глядеть отцу-герою в рот и слушать любого его слова. Старшему брату, Аникею, видно было, что эти отцовы слова не очень нравились, но он смолчал, не желая спорить. Отцу вместе со званием даровали и дворянство, с того старший Смолятин смог пробиться в Морской корпус. И не только пробиться, но и выучиться.
Влас в прошлом году, глядя, как при отцовых словах лицо Аникея вдруг враз замкнулось, резко очертились скулы, сузились глаза, дал себе обещание – выспросить у брата, что не так. Но за короткое время братнего отпуска поговорить с Аникеем так и не удалось. А потом брат уехал обратно в Кронштадт.
Но ведь отец прав!
И служба важнее личных обид!
Или – нет?