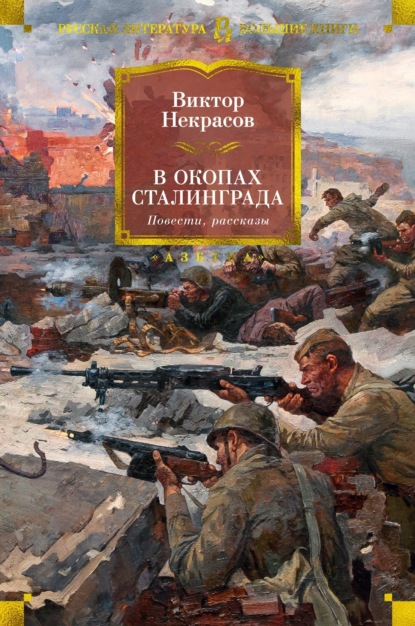По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
В окопах Сталинграда
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И во всей этой суматохе надо найти какого-то дивинженера, или командира дивизии, или начальника штаба, вручить пакет и ждать дальнейших распоряжений. А распоряжений, вероятно, никаких и не будет. У всех и так голова кругом идет: и пушки все надо погрузить, и боеприпасы, и лошадей, и людей не растерять, и вообще, какого черта вы сейчас лезете, когда видите, что делается.
Я нахожу инженера, но не того, командира полка, но тоже не того.
Кто-то дергает меня за рукав:
– Слушай, друг, фонарика нет?
– Есть.
– Посвети, дорогой. А то с ног сбился. Карту дали, а что в этой темноте увидишь…
Я различаю только массивную фигуру в телогрейке с болтающимся на груди автоматом.
– Давай под лодку залезем. Две минуты только… Ей-богу.
Под лодкой тесно и пахнет гнилым деревом. Я зажигаю фонарик. Горит он тускло – батарея кончается. У человека, оказывается, крупное, тяжелое лицо с широко расставленными глазами и мясистыми губами. На воротничке «шпала». С трудом вытягивает из лопающейся от бумаг, перетянутой резинкой планшетки карту.
– Вот иди разбери, – тычет он грязным ногтем в красный неровный треугольник на карте. – Карта называется! Белый квадрат вместо завода. Что тут поймешь! – И он длинно и заковыристо ругается. – Должны дивизию менять. Говорили, на переправе представитель будет. Ни души. Теперь ищи этот треугольник в городе. КП ихнее – дивизионное. Ни ориентира тебе, ничего.
Я спрашиваю, из какой он дивизии. Оказывается, комбат 1147-го полка 184-й дивизии.
– Не у вас сегодня инженера убило?
– У нас. Цигейкина. А что?
– Я на его место прислан.
– Ну. – Крупнолицый капитан даже обрадовался. – Вот и хорошо. Поедешь с нами. Я один как перст остался. Комиссар в медсанбате, а начальник штаба ночью ничего не видит.
Мы вылезаем из-под лодки.
– Подожди минутку. Лошадей только проверю. А то знаешь этих старшин.
Он исчезает, точно растворяется в толпе и крике. Я ищу Валегу. Он примостился уже около каких-то ящиков и мирно спит, поджав ноги, чтоб не оттоптали. Поразительная у него способность спать в любой обстановке. Сажусь рядом. С реки тянет легкой, успокаивающей прохладой. Пахнет рыбой и нефтью. Топчутся рядом кони, позвякивая сбруей. Где-то, совсем уже далеко, все еще ищут Стеценко.
Город горит. Даже не город, а весь берег на всем охватываемом глазом расстоянии. Трудно даже сказать, пожар ли это. Это что-то большее. Так, вероятно, горит тайга – неделями, месяцами, на десятки, сотни километров. Багровое клубящееся небо. Черный, точно выпиленный лобзиком силуэт горящего города. Черное и красное. Другого нет. Черный город и красное небо. И Волга красная. «Точно кровь», – мелькает в голове.
Пламени почти не видно. Только в одном месте, ниже по течению, короткие прыгающие языки. И против нас измятые, точно бумажные, цилиндры нефтебаков, опавшие, раздавленные газом. И из них пламя – могучие протуберанцы отрываются и теряются в тяжелых, медленно клубящихся фантастических облаках свинцово-красного дыма.
В детстве я любил рассматривать старый английский журнал периода войны четырнадцатого года. У него не было ни начала, ни конца, зато были изумительные картинки – большие, на целую страницу: английские томми в окопах, атаки, морские сражения с пенящимися волнами и таранящими друг друга миноносцами, смешные, похожие на этажерки, парящие в воздухе «блерио», «фарманы» и «таубе». Трудно было оторваться.
Но страшнее всего было громадное, на двух средних страницах, до дрожи мрачное изображение горящего от немецких бомбардировок Лувена. Тут было и пламя, и клубы дыма, похожие на вату, и бегущие люди, и разрушенные дома, и прожекторы в зловещем небе. Одним словом, это было до того страшно и пленительно, что перевернуть страницу не было никаких сил. Я бесконечное количество раз перерисовывал эту картинку, раскрашивал цветными карандашами, красками, маленькими мелками и развешивал потом эти картинки по стенам.
Мне казалось, что ничего более страшного и величественного быть не может.
Сейчас мне вспоминается эта картинка. Она неплохо была исполнена. Я до сих пор помню в ней каждую деталь, каждый завиток клубящегося дыма, и мне вдруг становится совершенно ясно, как бессильно, беспомощно искусство. Никакими клубами дыма, никакими лижущими небо языками пламени и зловещими отсветами не передашь того ощущения, которое испытываю я сейчас, сидя на берегу перед горящим Сталинградом.
На том берегу идет бой. Трассирующие очереди пулеметов и автоматов стелются по самому берегу. Неужели немец уже до воды добрался? Несколько длинных очередей перелетает через Волгу и теряется на этой стороне.
Откуда-то из-за спины стреляет «катюша». Мы видели машины – восемь штук, – когда шли сюда. Раскаленные снаряды, не торопясь, плывут, обгоняя друг друга в дрожащем от зарева небе и ударяют куда-то на противоположном берегу. Разрывов не видно. Видны только вспышки. Потом доносится и треск.
Кто-то рядом со мной плюет и удовлетворенно покряхтывает. Только сейчас замечаю, что рядом с нами, растянувшись, лежат бойцы.
– Ты мерина успел подковать? – спрашивает кто-то.
– Успел. А ты?
– Лютика успел, а вороному только две передние. У него какая-то рана. Никак не дается.
Приходит комбат. Тяжело дышит.
– Ей-богу, с ума сойдешь от этих переправ. Лет на пять постареешь. – Он громко сморкается. – Был генерал. Ясно сказал: сейчас мы, а потом двадцать девятая. Только на минуту отошел от причала, а они свои ящики уже навалили. Артиллерию, видишь ли, переправили, а боеприпасы на этой стороне оставили. А кто им мешал? Я вот с каждой пушкой снаряды везу. Господи, опять этот черт.
Комбат снова скрывается. Слышно, как кого-то ругает. Возвращается.
– Ну ладно, все это чепуха. На ту сторону как-нибудь переберемся. Важно, как там…
Выясняется, что полк получил приказ к двум ноль-ноль закончить переправу, а к четырем ноль-ноль сменить почти не существующую уже на том берегу дивизию в районе «Метиз» – Мамаев курган. Сейчас уже час, а ни один батальон еще не переправился. На той стороне только саперы, разведчики и опергруппа штаба. Командир полка и начальник штаба, кажется, тоже там. Главное, надо всю артиллерию – сорокапяти- и семидесятишести-, приданную батальону, к рассвету перетащить на передовую, на прямую наводку.
– Хорошо, – говорю я, – дашь мне две роты и пэтээровцев, а сам, с одной ротой, занимайся артиллерией. У тебя по скольку человек в роте?
– Человек по сто.
– Роскошно. Договорились, значит. Мне только точно место назначения дай.
– Да вот этот треугольник проклятый на карте. Откровенно говоря, я думаю, что там никого уже нет. В дивизии той человек сто, не больше. Две недели на том берегу уже дерутся.
И он опять убегает с кем-то ругаться. Голос у него такой, что, вероятно, на той стороне слышно.
Приходит катер. Он маленький, низенький, будто нарочно спрятавшийся в воду, чтоб его не было видно. На буксире разлапистая, неуклюжая баржа с длинным торчащим рулем.
Катер долго не может пристать, пятится, фырчит, брызгается винтом. Наконец сбрасывает сходни. Длинной, осторожной цепочкой спускаются раненые. Их много. Очень много. Сперва ходячие, потом на носилках. Их уносят куда-то в кусты. Слышны гудки машин.
Потом грузят ящики. Закатывают пушки. Топчутся лошади по сходням. Одна проваливается, ее вытаскивают из воды и опять ведут. Против ожидания, все идет спокойно и организованно. Даже комбата моего не слышно.
Мы отчаливаем, когда уже начинает светать, и сплошная масса, как казалось раньше, чего-то неопределенного за нашей спиной превращается в легкое кружево осинника. Мы стоим, вплотную прижавшись друг к другу. Кто-то дышит мне прямо в лицо чесноком. Глухо стучит где-то под ногами машина. Кто-то грызет семечки, шумно сплевывая. Валега, облокотившись на шинель, перекинутую через борт, смотрит на горящий город.
– Большой он все-таки, – говорит кто-то за моей спиной, – как Москва.
– Не большой, а длинный, – поправляет чей-то мальчишеский голос, – пятьдесят километров в длину. Я был до войны.
– Пятьдесят?
– Тютелька в тютельку, от Сарепты до Тракторного.
– Ого!
– Что – ого?
Я нахожу инженера, но не того, командира полка, но тоже не того.
Кто-то дергает меня за рукав:
– Слушай, друг, фонарика нет?
– Есть.
– Посвети, дорогой. А то с ног сбился. Карту дали, а что в этой темноте увидишь…
Я различаю только массивную фигуру в телогрейке с болтающимся на груди автоматом.
– Давай под лодку залезем. Две минуты только… Ей-богу.
Под лодкой тесно и пахнет гнилым деревом. Я зажигаю фонарик. Горит он тускло – батарея кончается. У человека, оказывается, крупное, тяжелое лицо с широко расставленными глазами и мясистыми губами. На воротничке «шпала». С трудом вытягивает из лопающейся от бумаг, перетянутой резинкой планшетки карту.
– Вот иди разбери, – тычет он грязным ногтем в красный неровный треугольник на карте. – Карта называется! Белый квадрат вместо завода. Что тут поймешь! – И он длинно и заковыристо ругается. – Должны дивизию менять. Говорили, на переправе представитель будет. Ни души. Теперь ищи этот треугольник в городе. КП ихнее – дивизионное. Ни ориентира тебе, ничего.
Я спрашиваю, из какой он дивизии. Оказывается, комбат 1147-го полка 184-й дивизии.
– Не у вас сегодня инженера убило?
– У нас. Цигейкина. А что?
– Я на его место прислан.
– Ну. – Крупнолицый капитан даже обрадовался. – Вот и хорошо. Поедешь с нами. Я один как перст остался. Комиссар в медсанбате, а начальник штаба ночью ничего не видит.
Мы вылезаем из-под лодки.
– Подожди минутку. Лошадей только проверю. А то знаешь этих старшин.
Он исчезает, точно растворяется в толпе и крике. Я ищу Валегу. Он примостился уже около каких-то ящиков и мирно спит, поджав ноги, чтоб не оттоптали. Поразительная у него способность спать в любой обстановке. Сажусь рядом. С реки тянет легкой, успокаивающей прохладой. Пахнет рыбой и нефтью. Топчутся рядом кони, позвякивая сбруей. Где-то, совсем уже далеко, все еще ищут Стеценко.
Город горит. Даже не город, а весь берег на всем охватываемом глазом расстоянии. Трудно даже сказать, пожар ли это. Это что-то большее. Так, вероятно, горит тайга – неделями, месяцами, на десятки, сотни километров. Багровое клубящееся небо. Черный, точно выпиленный лобзиком силуэт горящего города. Черное и красное. Другого нет. Черный город и красное небо. И Волга красная. «Точно кровь», – мелькает в голове.
Пламени почти не видно. Только в одном месте, ниже по течению, короткие прыгающие языки. И против нас измятые, точно бумажные, цилиндры нефтебаков, опавшие, раздавленные газом. И из них пламя – могучие протуберанцы отрываются и теряются в тяжелых, медленно клубящихся фантастических облаках свинцово-красного дыма.
В детстве я любил рассматривать старый английский журнал периода войны четырнадцатого года. У него не было ни начала, ни конца, зато были изумительные картинки – большие, на целую страницу: английские томми в окопах, атаки, морские сражения с пенящимися волнами и таранящими друг друга миноносцами, смешные, похожие на этажерки, парящие в воздухе «блерио», «фарманы» и «таубе». Трудно было оторваться.
Но страшнее всего было громадное, на двух средних страницах, до дрожи мрачное изображение горящего от немецких бомбардировок Лувена. Тут было и пламя, и клубы дыма, похожие на вату, и бегущие люди, и разрушенные дома, и прожекторы в зловещем небе. Одним словом, это было до того страшно и пленительно, что перевернуть страницу не было никаких сил. Я бесконечное количество раз перерисовывал эту картинку, раскрашивал цветными карандашами, красками, маленькими мелками и развешивал потом эти картинки по стенам.
Мне казалось, что ничего более страшного и величественного быть не может.
Сейчас мне вспоминается эта картинка. Она неплохо была исполнена. Я до сих пор помню в ней каждую деталь, каждый завиток клубящегося дыма, и мне вдруг становится совершенно ясно, как бессильно, беспомощно искусство. Никакими клубами дыма, никакими лижущими небо языками пламени и зловещими отсветами не передашь того ощущения, которое испытываю я сейчас, сидя на берегу перед горящим Сталинградом.
На том берегу идет бой. Трассирующие очереди пулеметов и автоматов стелются по самому берегу. Неужели немец уже до воды добрался? Несколько длинных очередей перелетает через Волгу и теряется на этой стороне.
Откуда-то из-за спины стреляет «катюша». Мы видели машины – восемь штук, – когда шли сюда. Раскаленные снаряды, не торопясь, плывут, обгоняя друг друга в дрожащем от зарева небе и ударяют куда-то на противоположном берегу. Разрывов не видно. Видны только вспышки. Потом доносится и треск.
Кто-то рядом со мной плюет и удовлетворенно покряхтывает. Только сейчас замечаю, что рядом с нами, растянувшись, лежат бойцы.
– Ты мерина успел подковать? – спрашивает кто-то.
– Успел. А ты?
– Лютика успел, а вороному только две передние. У него какая-то рана. Никак не дается.
Приходит комбат. Тяжело дышит.
– Ей-богу, с ума сойдешь от этих переправ. Лет на пять постареешь. – Он громко сморкается. – Был генерал. Ясно сказал: сейчас мы, а потом двадцать девятая. Только на минуту отошел от причала, а они свои ящики уже навалили. Артиллерию, видишь ли, переправили, а боеприпасы на этой стороне оставили. А кто им мешал? Я вот с каждой пушкой снаряды везу. Господи, опять этот черт.
Комбат снова скрывается. Слышно, как кого-то ругает. Возвращается.
– Ну ладно, все это чепуха. На ту сторону как-нибудь переберемся. Важно, как там…
Выясняется, что полк получил приказ к двум ноль-ноль закончить переправу, а к четырем ноль-ноль сменить почти не существующую уже на том берегу дивизию в районе «Метиз» – Мамаев курган. Сейчас уже час, а ни один батальон еще не переправился. На той стороне только саперы, разведчики и опергруппа штаба. Командир полка и начальник штаба, кажется, тоже там. Главное, надо всю артиллерию – сорокапяти- и семидесятишести-, приданную батальону, к рассвету перетащить на передовую, на прямую наводку.
– Хорошо, – говорю я, – дашь мне две роты и пэтээровцев, а сам, с одной ротой, занимайся артиллерией. У тебя по скольку человек в роте?
– Человек по сто.
– Роскошно. Договорились, значит. Мне только точно место назначения дай.
– Да вот этот треугольник проклятый на карте. Откровенно говоря, я думаю, что там никого уже нет. В дивизии той человек сто, не больше. Две недели на том берегу уже дерутся.
И он опять убегает с кем-то ругаться. Голос у него такой, что, вероятно, на той стороне слышно.
Приходит катер. Он маленький, низенький, будто нарочно спрятавшийся в воду, чтоб его не было видно. На буксире разлапистая, неуклюжая баржа с длинным торчащим рулем.
Катер долго не может пристать, пятится, фырчит, брызгается винтом. Наконец сбрасывает сходни. Длинной, осторожной цепочкой спускаются раненые. Их много. Очень много. Сперва ходячие, потом на носилках. Их уносят куда-то в кусты. Слышны гудки машин.
Потом грузят ящики. Закатывают пушки. Топчутся лошади по сходням. Одна проваливается, ее вытаскивают из воды и опять ведут. Против ожидания, все идет спокойно и организованно. Даже комбата моего не слышно.
Мы отчаливаем, когда уже начинает светать, и сплошная масса, как казалось раньше, чего-то неопределенного за нашей спиной превращается в легкое кружево осинника. Мы стоим, вплотную прижавшись друг к другу. Кто-то дышит мне прямо в лицо чесноком. Глухо стучит где-то под ногами машина. Кто-то грызет семечки, шумно сплевывая. Валега, облокотившись на шинель, перекинутую через борт, смотрит на горящий город.
– Большой он все-таки, – говорит кто-то за моей спиной, – как Москва.
– Не большой, а длинный, – поправляет чей-то мальчишеский голос, – пятьдесят километров в длину. Я был до войны.
– Пятьдесят?
– Тютелька в тютельку, от Сарепты до Тракторного.
– Ого!
– Что – ого?