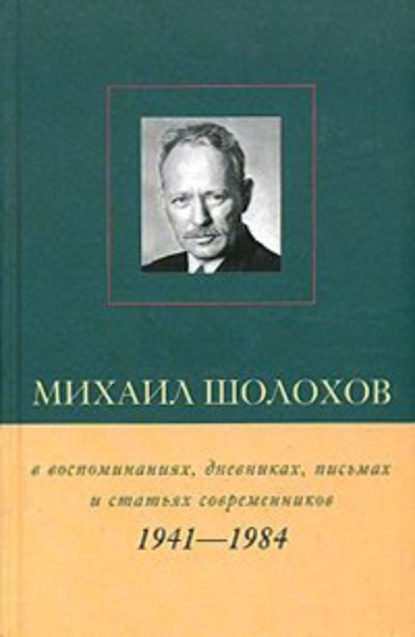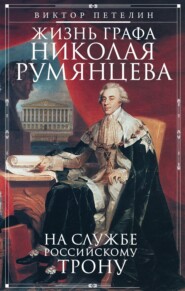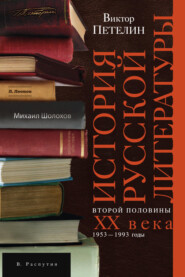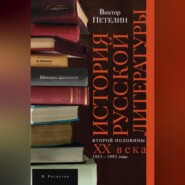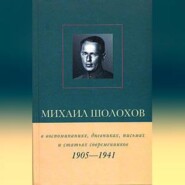По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Михаил Шолохов в воспоминаниях, дневниках, письмах и статьях современников. Книга 2. 1941–1984 гг.
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Михаил Шолохов в воспоминаниях, дневниках, письмах и статьях современников. Книга 2. 1941–1984 гг.
Виктор Васильевич Петелин
Перед читателями – два тома воспоминаний о М.А. Шолохове. Вся его жизнь пройдет перед вами, с ранней поры и до ее конца, многое зримо встанет перед вами – весь XX век, с его трагизмом и кричащими противоречиями.
Двадцать лет тому назад Шолохова не стало, а сейчас мы подводим кое-какие итоги его неповторимой жизни – 100-летие со дня его рождения.
В книгу вторую вошли статьи, воспоминания, дневники, письма и интервью современников М.А. Шолохова за 1941–1984 гг.
Виктор Петелин
Михаил Шолохов в воспоминаниях, дневниках, письмах и статьях современников. Книга 2. 1941–1984 гг
Часть первая
Война
Илья Котенко
Снаряженные народом
1
Не знаю, откуда происходит слово «наряд». В словаре сказано, что это «группа лиц, выполняющая служебные обязанности по особому назначению, а также сами такие обязанности». Но откуда оно взялось? Может быть, от старого русского ратного слова «снаряжать».
Первый раз оно пришло и осталось в памяти вместе со старой песней, которую певали по вечерам рыбаки станицы Елизаветинской: «Снаряжен стружек, как стрела, летит…» А потом оно, совершенно уже в другом виде, возникло в донецкой степи, когда мы, шахтерские мальчишки, под всякими предлогами стремились проникнуть в большую, с цементным полом, комнату у самого шахтного ствола, которая так и называлась – «нарядная». Перед сменой здесь всегда было людно, шумно, накурено. Здесь можно было узнать все поселковые новости, и отсюда, проверив в последний раз свои лампочки, на ходу докуривая цигарки, уходили шахтеры куда-то далеко под землю.
Много лет спустя, в годы первой пятилетки, мы, только что начавшие бриться комсомольцы, снова встретились с «нарядной». Это был деревянный, сбитый из горбылей барак, стоявший в самом дальнем углу строительной площадки Сельмашстроя. По утрам вокруг него собирались сотни подвод и саней, на снегу ярко зеленели клочки душистого донского сена, над лошадьми поднимался пар, а их хозяева, «грабари», съехавшиеся чуть ли не со всей Центральной России мужики, толпились в бараке, грелись у железных бочек, превращенных в печки, ругались с нарядчиками. Получив «маршрут», «грабари» поглубже натягивали треухи и выходили к своим «грабаркам», чтобы через несколько минут мчаться на них по дорогам в каменоломни, к Дону, за песком и на станцию Нахичевань-Донская, где на платформах высились шершавые ящики с заводским оборудованием.
После мы встречались с этим словом в армии. Как и многое в жизни, оно, это слово – «наряд», оборачивалось иногда своей неожиданной стороной, с малоприятным добавлением «вне очереди». Но зато как много гордых и глубоких ощущений и мыслей рождало оно, когда, осмотренные с ног до головы старшиной, мы уходили в гарнизонный наряд. Засыпает хорошо поработавший за день город, гаснут в многоэтажных домах огни, затихает даже листва на деревьях, и кажется: весь земной шар погружается в сон, а ты стоишь, прижав к боку винтовку, и чувствуешь, что охраняешь не крохотный объект, вещевой или продовольственный склад, а покой миллионов людей.
И вместе с народом становились мы в грозные годы в наряд, который был уже общегосударственным, общенародным, общечеловеческим.
2
В конце августа 1941 года к нам в действующую на Смоленском направлении XIX армию неожиданно прибыли Михаил Шолохов, Александр Фадеев и Евгений Петров. Впрочем, неожиданным их появление могло показаться именно тогда. Сейчас понятно, почему они появились в тот трудный месяц войны именно у нас, в нашей армии, на нашем участке.
Редакция нашей газеты «К победе» вместе с другими подразделениями штаба армии стояла тогда в лесах восточнее Вадино, неподалеку от шоссе Вязьма – Смоленск. Больше месяца передовые части вели позиционные бои под самой Духовщиной. Около колес типографских машин уже стала пробиваться зеленая травка осеннего побега, выгоревшие брезенты на машинах провисли под тяжестью опавших листьев, а по ночам часовые, выходя на посты по охране бивака, набрасывали на плечи шинели. Похоже было, что армия готовилась зимовать на занятых рубежах: мы еще спали в зеленых шалашиках, сложенных из соснового лапника, но отделение саперов в самом центре нашего расположения откапывало для всей редакции гигантскую землянку. Стала лучше работать полевая почта, появился военторг, даже тропинки между штабными подразделениями кто-то аккуратно посыпал песком. Словом, после беспокойного и тяжелого отхода армии из-под Витебска, через горящую, сметенную бомбами Рудню, опустевший Смоленск и заваленную трупами и разбитой техникой Соловьевскую переправу наступила пора передышки и ответного удара.
И он, этот ответный удар, наступил. Сначала на участке нашей армии вышла после длительных боев в немецких тылах большая группа под командованием генерала Болдина. В прорыве фронта участвовали авиация, танки и крупные части армии. Затем, развивая успех, полк под командованием полковника Грязнова повел успешное наступление; за ним пошли вперед другие полки и дивизии. Мы впервые увидели трофейные немецкие автоматы, танки, орудия и немецких пленных. Это был, по существу, один из первых крупных ударов, которые нанесли наши полевые войска на Западном фронте, и все мы мотались дни и ночи, не зная передышки: на передовую, в освобожденные деревни, к разведчикам и снова к себе в редакцию.
В разгар этих событий и появились у нас Михаил Шолохов, Александр Фадеев и Евгений Петров
. Об их появлении в армии мы узнали накануне и с нетерпением ожидали: зайдут они к нам или нет? Кто-то передавал, что они путешествуют по передовой вместе с командующим армией генералом Коневым, что будто Шолохов, где только можно, ищет донских казаков, а Фадеев – дальневосточников. Обсуждали вопрос: стоит ли их просить написать в нашу газету и чем угощать?
Появились они неожиданно, когда мы, расположившись на брезенте, поедали свой военторговский обед. Первым из-за маленьких сосенок вышел Михаил Александрович. Увидев нас, он остановился, поджидая Фадеева, Петрова и сопровождавшего их работника политотдела армии, затем сделал несколько шагов вперед и, чуть улыбаясь, приложил руку к зеленому козырьку фуражки:
– Здорово, земляки!
Мы вскочили. За время войны мы научились должным образом относиться к званиям и чинам: на петлицах наших гостей пестрели «шпалы», у Фадеева, если не ошибаюсь, был даже «ромб». Только наш старейшина, любимый «батя», писатель Александр Бусыгин, с ухмылочкой вытер ладонью рот и, поправив выгоревшую, закапанную смолой пилотку, шагнул навстречу:
– Здорово, Михаил Александрович!
– Здравствуй, Александр Иванович!
Они поздоровались чинно, чуть склонив головы, но в глазах обоих бегали какие-то удивительно милые бесенята, а затем, видимо не выдержав, они – и Шолохов, и Бусыгин – бросились друг к другу и обнялись так, что, казалось, намертво прикипели к спинам их руки. Затем Бусыгин поцеловался с Фадеевым, крепко пожал руку Петрову и как-то ловко обхватил их всех троих.
Евгения Петрова мы, тогда еще совсем молодые литераторы, до этого не видели ни разу. А что касается Шолохова и Фадеева, то это были наши, донские; многие с ними крепко дружили, почти все с ними встречались и, уж во всяком случае, знали их жизнь неплохо. И вот, когда они так стояли, обнявшись, в тени высоких сосен, на Смоленской земле, одетые в военную форму, я вдруг понял, почему эти трое дорогих нам людей на какую-то секунду замерли, прижавшись друг к другу.
В годы гражданской войны Шолохов, совсем еще тогда парнишка, мотался с продотрядом. Фадеев был комиссаром партизанского отряда, имея за плечами тоже не более двадцати лет. А Саша Бусыгин в девятнадцать лет был командиром красного бронепоезда. С той поры они немало сделали: славили жизнь, мужество, верность. Они любили друзей, детей, литературу, песни и вот снова встретились, одетые в армейскую форму, на далекой от Дона Смоленской земле, встретились опять на войне.
Впрочем, эта минутка-грустинка прошла, как березовый желтый листок, медленно проплывший мимо них на землю. Михаил Александрович, тая в уголках губ улыбку, кивнул в сторону нашей строящейся землянки:
– Устраиваетесь?
– Не помешает! – отозвался Бусыгин.
– Армия в наступление пошла, а вы курень строите!
– Наступать нам, Миша, далеко…
Шолохов, уловив в голосе Бусыгина неожиданно прорвавшуюся тоску, посерьезнел, кивнул.
– Это ты верно… Дорожка не близкая!
Фадеев между тем здоровался с нашими армейскими писателями и журналистами:
– Здравствуй, Гриша
, здравствуйте, Александр Палыч…
Как живется литературе на солдатских харчах?
В это время работник политотдела, сопровождавший гостей, приложил к фуражке руку:
– Разрешите напомнить насчет пленных. Их сейчас допрашивают…
Фадеев махнул рукой:
– Мы их уже с Евгением видели у артиллеристов…
– Выходит, я отстал? – Шолохов улыбнулся. – Ну что ж, пойдем поглядим…
3
Пленных допрашивали метрах в пятидесяти от нас, на крохотной полянке, притаившейся среди густой сосновой поросли. Около палатки, растянутой веревками, за квадратным столиком на одной ножке сидел, перебирая листки бумаги, смуглый, цыгановатый капитан. Рядом с ним примостился молоденький, с девичьим, во всю щеку, румянцем, лейтенант-переводчик, не раз приносивший к нам в редакцию свои стихи.
– Сидите, сидите! – Михаил Александрович поморщился и недовольно замахал рукой, когда и капитан, и переводчик вскочили, уставясь на него удивленными и радостными одновременно глазами. – Продолжай, капитан! – уже более строго сказал Шолохов, усаживаясь у самой палатки на перевернутый ящик.
Пленные, до этого сидевшие перед столиком на траве, тоже вскочили и стояли теперь вытянувшись, отведя назад плечи, и переводили взгляд с капитана на Шолохова и обратно. Впрочем, стояли только двое, третий – широкоплечий, рослый, с гладко зачесанными назад мокрыми волосами офицер в черном мундире – продолжал сидеть, опираясь одной рукой о землю, и равнодушно жевал травинку.
Виктор Васильевич Петелин
Перед читателями – два тома воспоминаний о М.А. Шолохове. Вся его жизнь пройдет перед вами, с ранней поры и до ее конца, многое зримо встанет перед вами – весь XX век, с его трагизмом и кричащими противоречиями.
Двадцать лет тому назад Шолохова не стало, а сейчас мы подводим кое-какие итоги его неповторимой жизни – 100-летие со дня его рождения.
В книгу вторую вошли статьи, воспоминания, дневники, письма и интервью современников М.А. Шолохова за 1941–1984 гг.
Виктор Петелин
Михаил Шолохов в воспоминаниях, дневниках, письмах и статьях современников. Книга 2. 1941–1984 гг
Часть первая
Война
Илья Котенко
Снаряженные народом
1
Не знаю, откуда происходит слово «наряд». В словаре сказано, что это «группа лиц, выполняющая служебные обязанности по особому назначению, а также сами такие обязанности». Но откуда оно взялось? Может быть, от старого русского ратного слова «снаряжать».
Первый раз оно пришло и осталось в памяти вместе со старой песней, которую певали по вечерам рыбаки станицы Елизаветинской: «Снаряжен стружек, как стрела, летит…» А потом оно, совершенно уже в другом виде, возникло в донецкой степи, когда мы, шахтерские мальчишки, под всякими предлогами стремились проникнуть в большую, с цементным полом, комнату у самого шахтного ствола, которая так и называлась – «нарядная». Перед сменой здесь всегда было людно, шумно, накурено. Здесь можно было узнать все поселковые новости, и отсюда, проверив в последний раз свои лампочки, на ходу докуривая цигарки, уходили шахтеры куда-то далеко под землю.
Много лет спустя, в годы первой пятилетки, мы, только что начавшие бриться комсомольцы, снова встретились с «нарядной». Это был деревянный, сбитый из горбылей барак, стоявший в самом дальнем углу строительной площадки Сельмашстроя. По утрам вокруг него собирались сотни подвод и саней, на снегу ярко зеленели клочки душистого донского сена, над лошадьми поднимался пар, а их хозяева, «грабари», съехавшиеся чуть ли не со всей Центральной России мужики, толпились в бараке, грелись у железных бочек, превращенных в печки, ругались с нарядчиками. Получив «маршрут», «грабари» поглубже натягивали треухи и выходили к своим «грабаркам», чтобы через несколько минут мчаться на них по дорогам в каменоломни, к Дону, за песком и на станцию Нахичевань-Донская, где на платформах высились шершавые ящики с заводским оборудованием.
После мы встречались с этим словом в армии. Как и многое в жизни, оно, это слово – «наряд», оборачивалось иногда своей неожиданной стороной, с малоприятным добавлением «вне очереди». Но зато как много гордых и глубоких ощущений и мыслей рождало оно, когда, осмотренные с ног до головы старшиной, мы уходили в гарнизонный наряд. Засыпает хорошо поработавший за день город, гаснут в многоэтажных домах огни, затихает даже листва на деревьях, и кажется: весь земной шар погружается в сон, а ты стоишь, прижав к боку винтовку, и чувствуешь, что охраняешь не крохотный объект, вещевой или продовольственный склад, а покой миллионов людей.
И вместе с народом становились мы в грозные годы в наряд, который был уже общегосударственным, общенародным, общечеловеческим.
2
В конце августа 1941 года к нам в действующую на Смоленском направлении XIX армию неожиданно прибыли Михаил Шолохов, Александр Фадеев и Евгений Петров. Впрочем, неожиданным их появление могло показаться именно тогда. Сейчас понятно, почему они появились в тот трудный месяц войны именно у нас, в нашей армии, на нашем участке.
Редакция нашей газеты «К победе» вместе с другими подразделениями штаба армии стояла тогда в лесах восточнее Вадино, неподалеку от шоссе Вязьма – Смоленск. Больше месяца передовые части вели позиционные бои под самой Духовщиной. Около колес типографских машин уже стала пробиваться зеленая травка осеннего побега, выгоревшие брезенты на машинах провисли под тяжестью опавших листьев, а по ночам часовые, выходя на посты по охране бивака, набрасывали на плечи шинели. Похоже было, что армия готовилась зимовать на занятых рубежах: мы еще спали в зеленых шалашиках, сложенных из соснового лапника, но отделение саперов в самом центре нашего расположения откапывало для всей редакции гигантскую землянку. Стала лучше работать полевая почта, появился военторг, даже тропинки между штабными подразделениями кто-то аккуратно посыпал песком. Словом, после беспокойного и тяжелого отхода армии из-под Витебска, через горящую, сметенную бомбами Рудню, опустевший Смоленск и заваленную трупами и разбитой техникой Соловьевскую переправу наступила пора передышки и ответного удара.
И он, этот ответный удар, наступил. Сначала на участке нашей армии вышла после длительных боев в немецких тылах большая группа под командованием генерала Болдина. В прорыве фронта участвовали авиация, танки и крупные части армии. Затем, развивая успех, полк под командованием полковника Грязнова повел успешное наступление; за ним пошли вперед другие полки и дивизии. Мы впервые увидели трофейные немецкие автоматы, танки, орудия и немецких пленных. Это был, по существу, один из первых крупных ударов, которые нанесли наши полевые войска на Западном фронте, и все мы мотались дни и ночи, не зная передышки: на передовую, в освобожденные деревни, к разведчикам и снова к себе в редакцию.
В разгар этих событий и появились у нас Михаил Шолохов, Александр Фадеев и Евгений Петров
. Об их появлении в армии мы узнали накануне и с нетерпением ожидали: зайдут они к нам или нет? Кто-то передавал, что они путешествуют по передовой вместе с командующим армией генералом Коневым, что будто Шолохов, где только можно, ищет донских казаков, а Фадеев – дальневосточников. Обсуждали вопрос: стоит ли их просить написать в нашу газету и чем угощать?
Появились они неожиданно, когда мы, расположившись на брезенте, поедали свой военторговский обед. Первым из-за маленьких сосенок вышел Михаил Александрович. Увидев нас, он остановился, поджидая Фадеева, Петрова и сопровождавшего их работника политотдела армии, затем сделал несколько шагов вперед и, чуть улыбаясь, приложил руку к зеленому козырьку фуражки:
– Здорово, земляки!
Мы вскочили. За время войны мы научились должным образом относиться к званиям и чинам: на петлицах наших гостей пестрели «шпалы», у Фадеева, если не ошибаюсь, был даже «ромб». Только наш старейшина, любимый «батя», писатель Александр Бусыгин, с ухмылочкой вытер ладонью рот и, поправив выгоревшую, закапанную смолой пилотку, шагнул навстречу:
– Здорово, Михаил Александрович!
– Здравствуй, Александр Иванович!
Они поздоровались чинно, чуть склонив головы, но в глазах обоих бегали какие-то удивительно милые бесенята, а затем, видимо не выдержав, они – и Шолохов, и Бусыгин – бросились друг к другу и обнялись так, что, казалось, намертво прикипели к спинам их руки. Затем Бусыгин поцеловался с Фадеевым, крепко пожал руку Петрову и как-то ловко обхватил их всех троих.
Евгения Петрова мы, тогда еще совсем молодые литераторы, до этого не видели ни разу. А что касается Шолохова и Фадеева, то это были наши, донские; многие с ними крепко дружили, почти все с ними встречались и, уж во всяком случае, знали их жизнь неплохо. И вот, когда они так стояли, обнявшись, в тени высоких сосен, на Смоленской земле, одетые в военную форму, я вдруг понял, почему эти трое дорогих нам людей на какую-то секунду замерли, прижавшись друг к другу.
В годы гражданской войны Шолохов, совсем еще тогда парнишка, мотался с продотрядом. Фадеев был комиссаром партизанского отряда, имея за плечами тоже не более двадцати лет. А Саша Бусыгин в девятнадцать лет был командиром красного бронепоезда. С той поры они немало сделали: славили жизнь, мужество, верность. Они любили друзей, детей, литературу, песни и вот снова встретились, одетые в армейскую форму, на далекой от Дона Смоленской земле, встретились опять на войне.
Впрочем, эта минутка-грустинка прошла, как березовый желтый листок, медленно проплывший мимо них на землю. Михаил Александрович, тая в уголках губ улыбку, кивнул в сторону нашей строящейся землянки:
– Устраиваетесь?
– Не помешает! – отозвался Бусыгин.
– Армия в наступление пошла, а вы курень строите!
– Наступать нам, Миша, далеко…
Шолохов, уловив в голосе Бусыгина неожиданно прорвавшуюся тоску, посерьезнел, кивнул.
– Это ты верно… Дорожка не близкая!
Фадеев между тем здоровался с нашими армейскими писателями и журналистами:
– Здравствуй, Гриша
, здравствуйте, Александр Палыч…
Как живется литературе на солдатских харчах?
В это время работник политотдела, сопровождавший гостей, приложил к фуражке руку:
– Разрешите напомнить насчет пленных. Их сейчас допрашивают…
Фадеев махнул рукой:
– Мы их уже с Евгением видели у артиллеристов…
– Выходит, я отстал? – Шолохов улыбнулся. – Ну что ж, пойдем поглядим…
3
Пленных допрашивали метрах в пятидесяти от нас, на крохотной полянке, притаившейся среди густой сосновой поросли. Около палатки, растянутой веревками, за квадратным столиком на одной ножке сидел, перебирая листки бумаги, смуглый, цыгановатый капитан. Рядом с ним примостился молоденький, с девичьим, во всю щеку, румянцем, лейтенант-переводчик, не раз приносивший к нам в редакцию свои стихи.
– Сидите, сидите! – Михаил Александрович поморщился и недовольно замахал рукой, когда и капитан, и переводчик вскочили, уставясь на него удивленными и радостными одновременно глазами. – Продолжай, капитан! – уже более строго сказал Шолохов, усаживаясь у самой палатки на перевернутый ящик.
Пленные, до этого сидевшие перед столиком на траве, тоже вскочили и стояли теперь вытянувшись, отведя назад плечи, и переводили взгляд с капитана на Шолохова и обратно. Впрочем, стояли только двое, третий – широкоплечий, рослый, с гладко зачесанными назад мокрыми волосами офицер в черном мундире – продолжал сидеть, опираясь одной рукой о землю, и равнодушно жевал травинку.