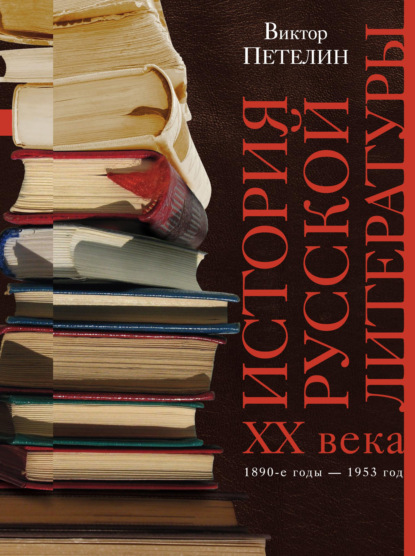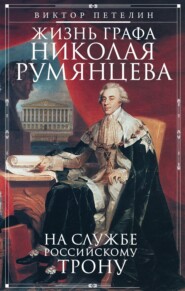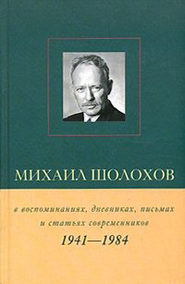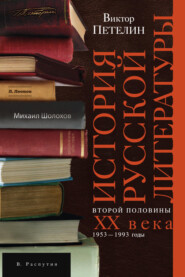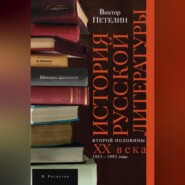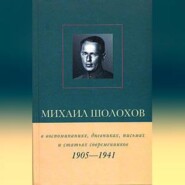По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История русской литературы XX века. Том I. 1890-е годы – 1953 год. В авторской редакции
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Они читали вместе все новинки символистов, спорили, но эрудиция Константина Петровича как будто не знала предела, он легко разбивал возражения Алексея:
– Читай лишь свою жизнь и из неё понимай иероглифы жизни в целом. – Константин Петрович процитировал Ницше. И продолжал: – Главная цель искусства – символическое изображение предельного человеческого идеала, образ грядущего человека-бога, во имя появления которого трудилось человечество на протяжении всех веков своего существования. Человек-бог придёт и скажет: «Для меня человечество трудилось, терзалось, отдавало себя в жертву, чтобы послужить пищей моему ненасытному стремлению к волнующим впечатлениям, к познанию, к прекрасному». Да, Бодлер прав, во имя этого стоит потрудиться.
Восторженность Константина Петровича передавалась и Алексею Толстому. Он и не заметил, как увлёкся грандиозными перспективами, открывающимися перед поэзией символизма.
Дома Алексей часами ходил по комнате и заучивал наизусть пленительные по своей изысканности строки:
Когда луна сверкнет во мгле ночной
Своим серпом блистательным и нежным,
Моя душа стремится в мир иной,
Пленяясь всем далеким, всем безбрежным…
Как музыкальны эти строчки! Какое-то убаюкивающее воздействие оказывают они на человека, словно отрешаешься ото всего реального, земного и совершаешь тихий полёт в полусне в лунные просторы.
Страничку за страничкой читал Алексей сборник Бальмонта и чувствовал сладкую грусть и какое-то необъяснимое томление. Весь мир казался далёким и ненужным с его борьбой и страстями, всё окуталось какой-то прозрачной пеленой, сквозь которую даже самые реальные в своих очертаниях предметы теряют свою четкость, становятся зыбкими в своей неопределённости.
И Толстой снова стал писать стихи. А работая над стихами, всё время ругал себя за то, что так отстал от современных эстетических учений. И вот он стоит перед выбором – или воспринимать окружающий его мир как реальную, всегда равную себе величину, или открывать в нём иной мир, таинственный, до сих пор не познанный, но и немыслимый отдельно от реальности. По дороге реализма или по тропинке, проложенной ещё немногочисленными символистами? На этот вопрос Алексей не мог ответить. То ему казалось, что он способен открыть какой-то неведомый и таинственный мир, приближающий его к познанию совершенной красоты человека-бога, то всё это представлялось чем-то надуманным и скоропортящимся. А нельзя ли соединить реализм с символизмом? Почему нужно проводить резкую грань между этими явлениями и отбрасывать то, что сделано нашими предшественниками? Зачем нужно добиваться созерцания сущности явления, а само явление оставлять за пределами искусства, за пределами творчества? Зачем топтать могилы предков или предавать их забвению? А не лучше ли сохранить, сберечь всё то, что ими оставлено ценного и непреходящего? Вот почётная задача нового человека и художника… Эти мысли приходили к нему, но не в ясных, чеканных формулах, а в смутных, неопределённых, еле уловимых ощущениях.
Однажды Толстой прочитал своему наставнику стихотворение, которое, думалось молодому автору, вполне его должно удовлетворить.
В марте 1907 года вышла первая книга Алексея Толстого – сборник стихов «Лирика». На обложке работы Фан-дер-Флита стоят даты: «январь – март 1907 г.». Но писались стихи и во второй половине 1906 года.
Символизм становится модным течением в литературе и искусстве. Открываются новые журналы, издательства, альманахи – «Золотое руно», «Заратустра», «Орфей», «Скорпион», «Мусагет». Печатаются статьи и книги символистов, поднимается шум и полемика вокруг их теоретических разногласий. На какое-то время это литературное движение становится главенствующим. Одно из своих стихотворений Толстой посвятил Андрею Белому, который поразил воображение молодого поэта: всего лишь на три года старше его, а уже знаменит своими яркими выступлениями и потрясающей эрудицией. Все, кому довелось видеть и слышать Белого, рассказывают о том огромном впечатлении, которое он производил своими выступлениями: он обладал редким даром заражать слушателей идеями, передавать им свои чувства и ощущения. В нём словно оживала огромная сила убеждения, искренность, вера. Толстой всё чаще стал бывать в литературных салонах. Заводил знакомства с писателями, художниками, артистами. Душевная щедрость, бьющая через край энергия сразу открыли ему широкий доступ во многие известные литературные клубы. Златоусты символизма, такие как Мережковский, Андрей Белый, Валерий Брюсов, широко образованные, великолепно подготовленные, толковали в лекциях, беседах, застольях о том, что самая страшная опасность для искусства – это возврат к реализму. Символизм – вот самая совершенная форма созерцания, а творческое созерцание – единственный метод познания живой сущности явлений. Жизнь груба своими безысходными противоречиями, сложностями, кровавыми столкновениями. Уйти от всего этого грубого, низменного в мир прекрасных интимных переживаний… Так вещали златоусты. И молодому поэту, только недавно ещё воспевавшему людей, готовых пожертвовать своей жизнью в борьбе за свободу, тоже казалось теперь, что такие темы сейчас не нужны: поэту не нужно быть утилитарным, полезным. Поэт – пророк, живущий вдали от шума общественных столкновений. Давно ли лилась кровь на мостовых, сооружались баррикады. Против царизма выступали многие поэты и писатели, в том числе и Бальмонт… А чего добились? Могучая и властная государственная машина навалилась на эту маленькую кучку протестантов и раздавила её, разбросала по огромной стране…
Вскоре после выхода сборника Алексей Толстой разочаровался в том, что написал. А много лет спустя совсем отказался от книги, назвав её холодной и пустой. Вслед за ним этой же оценки первого сборника стихов придерживались и многие исследователи и биографы. А между тем дело обстоит гораздо сложнее: поздний Толстой был не совсем прав в оценке молодого Толстого, а исследователи слишком слепо пошли за высказываниями самого художника.
Есть в этом сборнике и стихи талантливые, самостоятельные.
Работая над сборником, Алексей Толстой писал отчиму: «…не знаю, понравятся ли тебе мои стихи; выбрал для них среднюю форму между Некрасовым и Бальмонтом, говоря примерами, и думаю, что это самое подходящее.
Исходная точка – торжество социализма и критика буржуазного строя… Мне обидно за наших поэтов – Ницше утащил их всех «в холодную высь с предзакатным сиянием…». К счастью, Ницше меня никуда не таскал, по той простой причине, что я ознакомился не с ним, а с г-ом Каутским, и поэтому я избрал себе таковую платформу…»
И действительно, в сборнике есть стихи, которые внешне похожи на некрасовские. Большим сочувствием к несчастным рабам, идущим «под звон вечерний», пронизано стихотворение «Рабы».
Не видно лиц, согнуты спины,
И воздух темный дряхло стар
От дыма едкого сигар.
Так без конца текут лавины.
Нельзя, однако, преувеличивать значение этого стихотворения, ведь такие мотивы в русском символизме после революции 1905 года не так уж часты. Вот почему оно может свидетельствовать, что молодой Толстой действительно пытался соединить в своём творчестве некрасовские традиции и поэзию символизма.
Хороши в сборнике пейзажные и любовные стихи: «На диване забытый платок», «Струи огня задрожали», «В солнечных пятнах задумчивый бор», «Белый сумрак, однотонно», «Неподвижною ночью в долину сходили», «Душа грустна, как вздох цветов осенних», «Сбылось его желанье», «Рыдаешь ты»…
Но первая книга не принесла радости. Вскоре в современной ему поэзии и прозе зазвучали совсем иные темы и проблемы, появились «Ярь» и «Перун» Сергея Городецкого, «Сказки» Фёдора Сологуба, «Лимонарь» Алексея Ремизова. И Алексей Толстой понял, что его лирические опыты – вчерашний день в развитии русского символизма.
Если бы хоть несколько лет назад… Он опоздал. Лирические стихи подобного толка уже не пользовались успехом. Их даже не принимали всерьёз. Особенно в Петербурге. Если б шикали, ругали, он всё бы это выдержал легко. Но Алексей Толстой стал замечать несколько ироническое отношение к своей поэтической продукции. Вот что губительно сказывалось на его творческом настроении. Не раз ему приходилось слышать и читать, что лирик – это самое гордое и своенравное существо, всегда и во всех странах провозглашавшее своё непременное кредо: «Я так хочу». И Алексей Толстой стремился выразить своё собственное мироощущение, свою свободную волю и чувства, свой способ восприятия мира. Пусть мир не принимает его, лирический поэт не нуждается в этом признании. Он может стать певцом этого мира и может стать демоном, проклинающим его. Поэт совершенно свободен в своём творчестве. И он следовал законам своего времени. Так почему же иронически отзываются о его книжке? Чем же она хуже других? А он-то так радовался выходу своей первой книги…
Критикуя слабые поэтические сборники, Александр Блок, подводя итоги 1907 года, с горечью писал о хлынувшем потоке подражательной поэзии: «…Мы не удивимся, если на днях выйдут «Вечерние шумы» самого Александра Пушкина, тем более, что недавно вышла новая книга стихов нового поэта – графа Алексея Толстого».
И Алексей Николаевич, естественно, знал об этом отзыве.
6
Вскоре символистов стали признавать широкие круги российской общественности. Сначала на них шикали, гоготали, удивлялись их непомерным претензиям. На слово верили брани газетчиков. Потом у широкой публики появилась потребность собственными глазами увидеть крамольников, осмелившихся поднять свой голос против устоявшихся традиций, и убедиться в их полной бездарности и безликости. Только потешались недолго. Самые умные из приверженцев «старого» искусства стали замечать, что молодые ратоборцы нового искусства глубоки, серьёзны, блестяще владеют огромным историко-литературным материалом, не уступают в начитанности известным профессорам-филологам. К тому же они оказались искусными фехтовальщиками, способными разрушить красивыми словесными выпадами с эстрады газетную молву об идиотизме представителей нового искусства. Чаще всего эти битвы происходили в «Кружке», где за его существование побывала чуть ли не вся Москва. «Московский литературно-художественный кружок» – так полностью называлось объединение деятелей литературы и искусства, устраивавших по вторникам свои вечера. Членами клуба были Станиславский, Ермолова, Шаляпин, Собинов, Южин-Сумбатов, Ленский, Серов, Коровин, Васнецов и другие выдающиеся писатели, учёные, журналисты, художники и актёры: членами клуба были и политические деятели. Действительные члены и члены-соревнователи кружка вносили ежегодные членские взносы, но доход от взносов составлял только мизерную часть огромных средств, расходуемых на содержание роскошного особняка, многочисленных официантов и слуг, на пополнение великолепной библиотеки, на материальную помощь нуждающимся писателям, артистам, музыкантам. Основная часть средств поступала от играющих в «железку». После двенадцати часов ночи играющие платили штраф, к шести часам утра, когда заканчивалась игра, штраф доходил до тридцати двух рублей. Некоторые члены клуба пытались протестовать против таких «нечестных» доходов, дескать, нельзя клуб творческой интеллигенции превращать в игорный дом. Но сломать заведённый порядок было невозможно: уже все привыкли к роскошному особняку, где полно света, уютной мебели, дорогих картин на стенах, где есть читальный зал, в котором можно просмотреть русские и иностранные журналы и газеты. Особняк на Большой Дмитровке славился и своим прекрасным буфетом, где всегда можно было найти тончайшие вина и недорого поужинать. Если отказаться от главного источника дохода, то нужно было ограничивать себя во всём. Кто ж тогда пойдёт в такой клуб? А ведь в «Кружке» бывали крупные тузы, которых прельщала только его ночная жизнь, скрытая от посторонних глаз.
Но вскоре писатели отделились от «Кружка».
«Поэты в России всегда должны были держаться, как горсть чужеземцев в неприятельской стране, настороже, под ружьем. Их едва терпели, и со всех сторон они могли ожидать вражеского нападения», – говорил Валерий Брюсов, один из лидеров нового искусства. Ему-то и принадлежала инициатива создания нового общества – Общества свободной эстетики.
Валерий Брюсов привлек в это общество многих начинающих писателей. Вот что об этом вспоминает Андрей Белый: «Здесь Москва знакомилась с Алексем Толстым, которого подчеркивал Брюсов, как начинающего поэта; Толстой читал больше стихи; он предстал романтически: продолговатое, худое еще, бледное, гипсовой маской лицо; и – длинные, спадающие, старомодные кудри, застегнутый сюртук; и – шарф вместо галстука: Ленский! Держался со скромным надменством».
Московские символисты быстро признали в нём своего единомышленника. Алексей Толстой обладал поразительной способностью впитывать в себя всё, что он видел, слышал, читал. Вскоре Алексей Толстой узнал, что Общество свободной эстетики было создано по инициативе тех, кто был недоволен заведённым в «Кружке» порядком: им пришла счастливая мысль образовать чисто литературно-художественное общество. Цель его – «способствовать успеху и развитию в России искусств и литературы и содействовать общению деятелей их между собой!». На собраниях общества выступали с докладами, с чтением стихов, с исполнением новых музыкальных произведений, в помещении общества устраивались художественные выставки.
Впервые, может быть, символисты и близкие им по творческой устремленности получили возможность открыто агитировать за свои теоретические принципы и объединять все, по выражению А. Белого, «живые силы искусства». Были здесь Матисс, входивший тогда в моду, знаменитый художник Морис Дени, пытавшийся воскресить примитив. Верхарн читал стихи, а Брюсов давал их в своём переводе. Частыми посетителями Общества свободной эстетики бывали художники, музыканты, писатели: Игумнов, Гречанинов, Метнер, Гедике, Скрябин, Серов, Судейкин, Павел Кузнецов, Сарьян, Грабарь, Голубкина, художники «Мира искусства» во главе с их идейным вдохновителем Дягилевым, Качалов, Книппер-Чехова, Южин-Сумбатов, Волошин, Вячеслав Иванов, Бальмонт, Клычков, Марина Цветаева…
Острая полемика на страницах газет и журналов продолжалась. Илья Гинцбург в сущности перечеркнул Пятую выставку художников «Мира искусства», не найдя в этих полотнах ничего особенного, ничего индивидуального: всё это, дескать, вывезено из Парижа и других европейских держав (Речь. 1906. 3 и 4 марта). «Плодовитый статуэточный мастер г. Гинцбург, произведения которого настолько распространены, что слепки с них нередко попадаются даже на лотках по Невскому проспекту, – тут же отозвался на этот выпад С. Дягилев, – пишет о том, как надо писать картины, созвучные эпохе. Что же касается до того, – продолжал полемику С. Дягилев, – что мы всё наше творчество «десять лет тому назад вывезли из Парижа», то это тот безграмотный упрёк, который способен сделать лишь человек, слепой по отношению к культуре и к истории. Не мы вывезли наше молодое русское творчество из Парижа, а нас ждут в Париже, чтобы от нас почерпнуть силы и свежести.
Вся послепетровская русская культура с виду космополитична, и надо быть тонким и чутким судьёй, чтобы отметить в ней драгоценные элементы своеобразности, надо быть иностранцем, чтобы понять в русском русское, они гораздо глубже чуют, где начинаемся «мы», то есть видят то, что для них всего дороже и к чему мы положительно слепы» (Русь. 1906. 8 марта). И решительно заявил, что, кроме художников «Мира искусства», «в настоящее время в России иного искусства не существует».
В письме от 9 марта 1906 года Илья Гинцбург пожаловался Владимиру Стасову, что его полемика с Дягилевым, «ничтожным и безумным», уверявшим, что «декадентство – будущее искусство России», оказалась неудачной. В.В. Стасов тут же оголил свой меч и бросился в атаку на выставку «Мира искусства»: «Эти карикатурные пророчества провозглашает во весь рупор декадентский пастух г. Дягилев, но для одного пасомого им стада они только и могут пригодиться. Для прочих людей и художников они смешны и забавны. Стадо г. Дягилева, рабское и безвольное, вышло из источников и преданий чужих, иностранных – сначала французских, а потом немецких. Не заключая в себе ни единой капли чего-нибудь самостоятельного, своего, декаденты наши, по непростительной своей слабости, повторяют свои иноземные образцы, старательно переобезьянничивают их, и пробуют, насколько позволяют их слабые силёнки, перещеголять их в нелепости и глупости. Г. Дягилев объявляет даже нынче в печати, что «нас ждут в Париже, и ждут для того, чтобы от нас почерпнуть силы и свежести». Конечно, разве только ребёнок поверит такому бесстыдному хвастовству, такому безумному надувательству» (Наши нынешние декаденты // Страна. 1906. 25 марта).
Статья В. Стасова очень обрадовала Репина: «Ваш бич ещё щеголяет своей упругостью и оглушительными весёлыми щелканиями!.. Стадо декадентов, по своим избитым задворкам, улепётывает, оставляя со страху неопрятный след… Пастух в отчаянье» (Репин И. Переписка со Стасовым. Т. 3. С. 113).
Но ни «пастух» не был в отчаянии, ни Илья Гинцбург и Владимир Стасов не оказались победителями в полемике: декаденты вскоре заняли ведущее положение в русском обществе, доказав свою самостоятельность и национальное своеобразие, а в Париже в этом же году покорили весь цвет французской нации.
Революция 1905 года всколыхнула все слои российского общества. Миллион поляков, финны, евреи, представители кавказских национальностей заговорили о своих национальных правах и о своём участии в управлении государством. Заговорили и русские писатели о значении революции 1905 года и о судьбе русских в России. Прежде всего русские учёные и публицисты обратили внимание на национальный состав участников прошедшей революции, отметив её инородческий характер. Русское правительство приговорило несколько отъявленных террористов к смертной казни, несколько оппозиционных газет выступило против таких мер. Публицисты «Нового времени» были крайне удивлены подобным отношением к правительственным мерам: правительство не может подавить террор, развязанный террористами.
М. Меньшиков (как и другие журналисты и публицисты газеты) в своих статьях в «Новом времени» призывал к тому, чтобы правительство было решительным, призывал не слушать «силящую быть приличной кадетскую «Речь», а отвечать войной на войну. Террористы могут «сколько угодно крошить христиан бомбами и браунингами, а христиане отнюдь не могут их тронуть, даже по приговору уголовного суда… Трагическая борьба, что идёт теперь, – борьба за жизнь России, требует не кое-каких, а подчас трагических мер» (Меньшиков М.О. Письма к русской нации. М., 2005. С. 43). Правительство стало робким, оттого что перестало быть русским: «Если немцы, которых один процент в Империи, захватили кое-где уже 75 процентов государственных должностей, то на первое время смешно даже говорить о русском «господстве». Речь идёт не только о государственных должностях. Не менее тяжёлое засилье инородчины идёт в области общественного и частного труда. Разве самые выгодные промыслы не в руках чужих людей? Разве две трети крупной торговли не в руках евреев? Разве биржа и хлебная торговля не в их руках? Разве нефтяное дело, Каспийское море, Волга не в их руках? Переходя к умственным профессиям, разве самое сознание страны – печать – не в их руках? Разве театр, музыка, отчасти искусство не в их руках? Разве адвокатура, врачебное дело, техника не переходит быстро в их руки? «Значит, они талантливее русских, если берут верх», – говорят евреи. Какой вздор! В том и беда, что инородцы берут вовсе не талантом. Они проталкиваются менее благородными, но более стойкими качествами – пронырством, цепкостью, страшной поддержкой друг друга и бойкотом всего русского. В том-то и беда, что чужая посредственность вытесняет гений ослабевшего племени и низкое чужое в их лице владычествует над более высоким…» В другом месте своих «Писем» М. Меньшиков с крайним удивлением узнал, что Всеволод Мейерхольд начал выступать на императорской сцене; он слушал его на субботнике в Литературно-художественном обществе и «просто каменел от изумления: неужели это-то и есть знаменитый г-н Мейерхольд, актёр, о котором столько кричали – правда, еврейские газеты?». «Неужели талантливая когда-то г-жа Комиссаржевская именно этого тощего, рыжеватого, некрасивого господина с шапкой курчавых волос сделала избранником своего вкуса, своей полубезумной любви к театру? – спрашивал Меньшиков и продолжал: – Правда, г-жа Комиссаржевская рассталась наконец с г-ном Мейерхольдом, убедившись, что он губит её театр, как пришлось ей расстаться с г-ном Флексером (Аким Волынский), который тоже тщился сделать умопомрачительное на её сцене. Но каким образом забракованный даже второстепенной сценой незначительный еврей вдруг выскочил в режиссёры Императорского Александринского театра? Прямо чудеса творятся в нашем несчастном отечестве!.. Дело, конечно, вовсе не в том, что г-н Мейерхольд еврей. Будь это гениальный человек, он мог бы быть готтентотом, и с этим все примирились бы. Но г-н Мейерхольд всего лишь несколько растрёпанный, взбудораженный, нервно взвинченный, притом вполне посредственный представитель иудейской расы. Гениальные люди большая редкость, но даже талантливый был бы находкой – однако тут талантом и не пахнет. Сужу по той лекции, которую развязно прочёл нам г-н Мейерхольд о «театре исканий». Господи, какая это была чепуха!» (Там же. С. 98). Меньшиков приводит ссылки на известного театрального критика Ю. Беляева, который писал, что: «Актер г-н Мейерхольд преплохой. Эта фигура, эти жесты, этот голос…» И Комиссаржевской «пришлось «дезинфицировать» свой театр от «мейерхольдии», – завершает свою статью Ю. Беляев. А теперь Мейерхольд оказывается режиссёром на императорской сцене. «Как случилось это безобразие? – спрашивает М. Меньшиков. – Как вообще проникают пронырливые сыны Израиля в передний угол русской жизни – в литературу, в академию, в администрацию, до сенаторских и министерских постов включительно?.. Об актёре г-не Мейерхольде я не даю своего мнения, но что он неумён – об этом он сам кричал в течение всей своей лекции. Он удивительно напомнил мне другого крайне претенциозного и бесталанного еврея, г-на Волынского, известного когда-то критика Л.Я. Гуревич, издававшей «Северный вестник». Совершенно та же у обоих напруженность тощей еврейской мысли, тот же задор, то же выкручивание будто бы глубоких, а в сущности, убогих эффектов, то же погружение в пучины декадентской философии и парение на верхах упадочничества вообще. Впечатление шарлатанства и банкротства, тщательно скрываемого от одурачиваемой публики. Казалось бы, как иметь успех вот таким инородцам, ни в какой степени не Ротшильдам и не Рубинштейнам, а самым что ни на есть заурядным представителям юго-западных местечек? А между тем они имеют успех – и не только среди своего племени. Множество русских простаков протежируют этим господам – сажают их в красный угол, выводят в начальство, в критики и режиссёры, притом действительно крупных русских талантов… А уж один проскользнувший сын Иуды, будьте покойны, протащит за собой целый кагальчик обрезанных и выкрестившихся сородичей. Так глохнет русская жизнь, начиная с верхов её. Так глохнут литература, наука, искусство, тронутое, как плесенью, нашествием постороннего русской жизни элемента…» (Там же. С. 98—101).
Эта полемика вокруг инородцев в России побудила серьёзных писателей и учёных устраивать обсуждения и, наконец, написать книги по этому вопросу. Прежде всего, следует упомянуть статьи и книги В.В. Розанова, А.С. Суворина, книги П.И. Ковалевского «Психология русской нации» (СПб., 1915) и И.А. Сикорского «О психологических основах национализма» (Киев, 1910), в которых глубоко и точно было сказано о национальных чувствах, о национальном самосознании русского народа и русского человека, о русском массовом национализме, который должен испытывать каждый русский человек. Вспомним гениальные слова Фёдора Достоевского, который писал, что надо стать русским.
Эти вопросы касались и многих писателей.
Александр Блок в своей благополучной и образованной семье редко задумывался о судьбе России. Здесь необходимо сказать о происхождении Александра Александровича: биограф его отца, Е. Спекторский, писал в книге «Александр Львович Блок, государствовед и философ» (Варшава, 1911): «Александр Львович Блок происхождения полунемецкого… Один из его предков, выходец из Мекленбурга, был врачом царя Алексея Михайловича. Прадед А.Л., лейб-хирург Иван Блок, в 1796 был возведён в русское дворянство… Отец его был лютеранин…» Женился Александр Львович на Александре Андреевне Бекетовой, дочери знаменитого ботаника А.Н. Бекетова, ректора Петербургского университета. Чаще всего с друзьями и нередко общаясь с знаменитым философом и писателем Владимиром Соловьёвым, больше всего говорили об извечных философских категориях – о Добре и Зле, о Христе и Антихристе, о Любви и Ненависти, почти никогда не сталкивались с реальными противоречиями времени. «Творческая душа Соловьёва была исполнена не только мистических созерцаний и отвлеченных умозрений, – писал С.А. Левицкий в предисловии к книге «Три разговора» В.С. Соловьёва, изданной в Нью-Йорке в 1954 году, – она жаждала прежде всего деятельного воплощения в жизнь основ христианского миропонимания. Смысл жизненного дела Соловьёва заключается в духе религиозного мессианизма, которым проникнуты все его писания и деяния. Соловьёв, как личность, стоит выше всех своих творений, они суть лишь фрагменты его духовного пути» (Там же. С. 7). И здесь говорится лишь о фрагменте его духовных общений, а на самом деле это был великий философ и писатель, лекции которого слушали не только Александр Блок и его друзья, его слушали Достоевский и Лев Толстой, его острые публикации в газетах и журналах вызывали бурю откликов и страстной полемики.
Острая и взрывная обстановка жизни Александра Блока очень серьёзно влияла на его творчество, и он не раз думал, что все ближайшие к нему люди «на границе безумия, как-то больны и расшатаны» (Собр. соч. VII, 142). И в этой атмосфере надо иметь большие нравственные силы, чтобы, преодолевая одиночество, выйти в огромный общечеловеческий мир.
«Ведь тема моя, – писал Александр Блок после революции 1905 года, – я знаю теперь это твёрдо, без всяких сомнений – живая, реальная тема… Все мы, живые, так или иначе к ней же придём… Откроем сердце, – исполнит его восторгом, новыми надеждами, новыми силами, опять научит свергнуть проклятое «татарское» иго сомнений, противоречий, отчаянья, самоубийственной тоски, «декадентской иронии» и пр. и пр., всё то иго, которые мы, «нынешние», в полной мере несём. Не откроем сердца – погибнем… В таком виде стоит передо мной моя тема, тема о России (вопрос об интеллигенции и народе, в частности). Этой теме я сознательно и бесповоротно посвящаю жизнь… Ведь здесь – жизнь или смерть, счастье или погибель» (Там же. VIII, 265). «Современная русская государственная машина есть, конечно, гнусная, слюнявая, вонючая старость… Революция русская в её лучших представителях – юность с нимбом вокруг лица… Если есть чем жить, то только этим. И если где такая Россия «мужает», то уж конечно, – только в сердце русской революции в самом широком смысле, включая сюда русскую литературу, науку и философию, молодого мужика, сдержанно раздумывающего думу «всё об одном», и юного революционера с сияющим правдой лицом, и всё вообще непокладливое, сдержанное, грозовое, пресыщенное электричеством. С этой грозой никакой громоотвод не сладит» (Там же. VIII, 277).
И в таком духовном настроении Александр Блок прощается с символизмом; матери в январе 1908 года Блок сообщает, что определяет «свою позицию и свою разлуку с декадентами» (Там же, VIII, 224). Затем об этом разрыве он сообщает ещё чётче и определённее. И это проявилось особенно в стихах, верных могучим традициям отечественной литературы:
Но ты, художник, твёрдо веруй
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрастной мерой
Измерить всё, что видишь ты.
Твой взгляд да будет твёрд и ясен.
Сотри случайные черты —