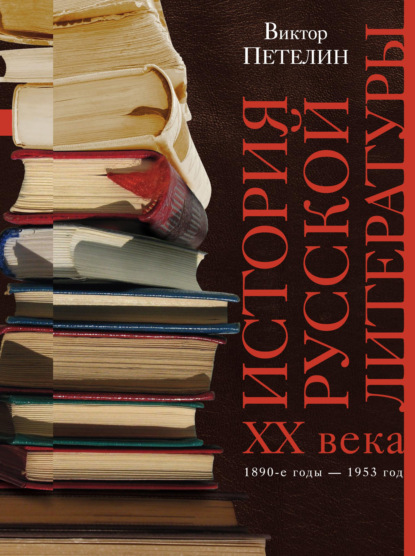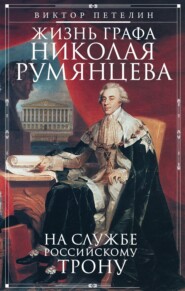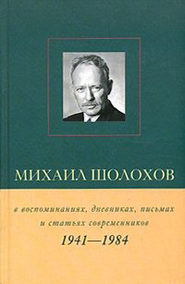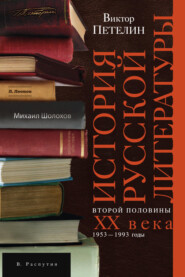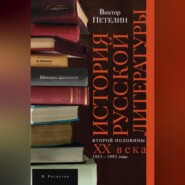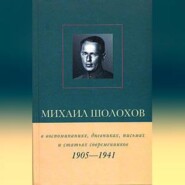По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История русской литературы XX века. Том I. 1890-е годы – 1953 год. В авторской редакции
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На заседании «Кружка молодых» Александр Блок читал свою пьесу «Балаганчик».
«Кружок» был задуман молодыми не для развлечений, а для обсуждения своих рукописей, для чтения лекций прославленными мастерами, как своеобразная литературная учёба. По воскресеньям собирались кто у Фёдора Сологуба, кто у Розанова. Здесь много говорили и спорили на различные темы, у Розанова смотрели коллекцию старинных монет, беседовали о материальной культуре Древнего мира и Средневековья. А в «Кружке» работали, высказывались о сочинениях друг друга, порой яростно спорили.
В «Кружке молодых», по словам Блока, «очень интересно, многолюдно и приятно». Михаил Кузмин приходил в качестве гостя. В поддёвке, поражавшей своими причудливыми застёжками, Михаил Кузмин сразу привлёк внимание тем, что он сочинял не только стихи, но и музыку к ним. Чёрный как смоль, молодой, румяный, он пел свои «Куранты любви», чуть-чуть коверкая слова:
Эсли завтра будет солнце,
Мы во Фьезоле поедем,
Эсли завтра будет дождь,
То карету мы возьмем.
Эсли встретим продавщицу,
Купим лилий целый ворох,
Эсли ж мы её не встретим,
За цветами сходит грум…
Эсли ты меня полюбишь,
Я тебе с восторгом верю,
Эсли не полюбишь ты,
То другую мы найдем.
Все затруднения разрешались просто и ясно в этой весёлой песенке. Этим спокойным оптимизмом и нравилась поэзия М. Кузмина, отличаясь от серьёзной, глубокой лирики Блока, Андрея Белого, Сергея Городецкого своим неподдельным весельем и здоровым отношением к миру.
С этого «Кружка молодых», собиравшегося по очереди то у Блока, то у Сергея Городецкого, и началась «Академия стиха», где занятия проводил все тот же Вячеслав Иванов. Вскоре после возвращения из Парижа Алексей Толстой стал непременным слушателем «Академии стиха».
«В этот период на меня оказывает влияние поэт Вячеслав Иванов. В его квартире создается общество молодых поэтов под названием «Академия стиха». Общество затем переносится в редакцию «Аполлона», а в 1911 году из него вырастает «цех молодых поэтов», но я уже в нём не состою», – писал Алексей Толстой в автобиографии в 1916 году.
Н. Гумилёв, только что вернувшийся из-за границы, О. Мандельштам, А. Толстой просили Вячеслава Иванова, Максимилиана Волошина, И.Ф. Анненского прочитать лекции по стихосложению. На квартире Вячеслава Иванова стали собираться молодые поэты специально для того, чтобы прослушать их лекции. Но занятия проводил только Вячеслав Иванов.
Лекции Вячеслава Иванова слушали с большим вниманием. Им необходимо было понять основы русского стихосложения. До сих пор самоукой и урывками они постигали тайны творчества, некритически усваивая всё, что бродило на поверхности модного литературного символизма. А здесь систематический курс и близкое общение с одним из ведущих поэтов нового направления! Беседы с Н. Гумилёвым, О. Мандельштамом и особенно С. Городецким, получившим университетское филологическое образование, также приносили свои результаты.
В этот период у молодых символистов выходили стихи в различных журналах и в многочисленных сборниках.
9
В это лето 1909 года родилась одна забавная штука, которая потом долго служила предметом серьёзных разговоров. М. Волошин и Е. Дмитриева затеяли игру: послали в журнал «Аполлон» её стихи под псевдонимом Черубина де Габриак.
В «Хронике» журнала «Аполлон» (1909. № 2) появилась заметка Макса Волошина «Гороскоп Черубины де Габриак»:
«Когда-то феи собирались вокруг новорожденных принцесс и каждая клала в колыбель свои дары, которые были, в сущности, не больше, чем пожеланиями. Мы, критики, тоже собираемся над колыбелями новорожденных поэтов. Но чаще мы любим играть роль злых фей и пророчить о том мгновении, когда их талант уколется о веретено и погрузится в сон. А слова наши имеют начальную силу. Что скажут о поэте – тому и поверят. Что процитируем из стихов его – то и запомнят. Осторожнее и бережнее надо быть с новорожденными.
Сейчас мы стоим над колыбелью нового поэта. Это подкидыш в русской поэзии. Ивовая корзина была неизвестно кем оставлена в портике Аполлона… Аполлон усыновляет нового поэта…»
Вся статья была выдержана в серьёзных тонах, и никто, во всяком случае, и не догадался, что это очередная мистификация. В этом же номере было напечатано двенадцать стихотворений Черубины де Габриак и объявлялось, что в портфеле редакции есть ещё её стихи. Шутка шуткой, но добились своего: в следующем номере «Аполлона» Иннокентий Анненский признавался в том, что стихи Черубины де Габриак породили в нём «какое-то неопределенно-жуткое чувство».
Молодые поэты-символисты упорно продолжали заниматься в «Академии стиха». Лекции Вячеслава Иванова и Иннокентия Анненского, встречи и разговоры с Гумилёвым, Анной Ахматовой, Мариной Цветаевой, Юрием Верховским по-новому осветили многие проблемы стихосложения. Много дали лекции Иннокентия Анненского. Длинный, сухой, красивый старик, все ещё ходивший в педагогическом мундире (он много лет был инспектором и директором различных гимназий), поразил начинающих поэтов проникновенным знанием русской классики, особенно Лермонтова. Когда он начинал читать знакомые с детства стихи, словно открывался новый мир, столько несравненной задушевности и необъятной глубины несло его исполнение. Анненский своими знаниями, бескорыстием и добротой сразу пленил сердца молодых слушателей, сразу стал непререкаемым авторитетом, хотя большинство его стихотворений не были напечатаны; «Кипарисовый ларец» вышел после его смерти.
Выступал в «Академии стиха» и Андрей Белый. «Андрей Белый, – вспоминает В. Пяст, – привлек в качестве материала для исследования даже стихи «Алексея Толстого-младшего», – так называл он вот этого – тогда – поэта».
Много было разговоров в Петербурге вокруг нового журнала «Аполлон». «Золотое руно» и «Весы» закрылись, и новый журнал был просто необходим. Немало серьёзных надежд возлагалось на него, но немало и весёлых анекдотов и шуток ходило по городу в связи с этим литературным событием.
На очередном заседании «Академии» только и было разговоров о новом журнале. Юрий Верховский, тоже поэт, объявил, что вышел первый номер «Аполлона» под редакцией Анненского, Волошина и Волынского.
– А что общего между ними? – вскользь бросил кто-то.
– Что общего между Волынским и Волошиным? Только вол. А между Волынским и Анненским? Только кий, – весело каламбурил Верховский.
Этот очаровательный человек, настоящий поэт и серьёзный филолог, несмотря на его каламбуры и шуточки, кажется, не имел ни одного врага, настолько он был кроток, бескорыстен, а его ленивая мечтательность и неумение устраивать свои житейские и литературные дела стали просто легендарными.
Здесь, в «Академии стиха», состоялась острая дискуссия Иннокентия Анненского и Вячеслава Иванова о путях развития символизма. Оба блистали филологической эрудицией, но позиция Вячеслава Иванова была шире и поэтому привлекательнее для молодых ревнителей изящной словесности. Жаль Иннокентия Фёдоровича. В нём под маской строгого и делового чиновника все видели человека живого и остроумного, с глубоким поэтическим даром.
Во втором номере «Аполлона» в статье «О современном лиризме» Анненский писал: «Граф Алексей Н. Толстой – молодой сказочник, стилизован до скобки волос и говорка. Сборника стихов ещё нет. Но многие слышали его прелестную Хлою-Хвою. Ищет, думает; искусство слова любит своей широкой душой. Но лирик он стыдливый и скупо выдает пьесы с византийской позолотой заставок…»
Редактором и организатором нового журнала стал Сергей Маковский, сын известного художника, выступивший не так давно с поэтической книжкой, регулярно печатавший статьи по искусству.
Сергей Маковский поразил необыкновенной изощрённостью в одежде и добрым приёмом. Но тут было совсем другое. Ни у кого ещё не было таких высоких двойных воротничков, такого большого выреза жилета, таких лакированных ботинок и так тщательно отутюженной складки брюк. А главное, что особенно поразило в наружности редактора, – это его пробор и нахально торчащие усы. И действительно, как вскоре убедились многие авторы и посетители, апломб и безграничная самоуверенность были чуть ли не главными чертами редактора нового журнала.
Но после 1907 года пришло разочарование в «старом» символизме, в абстрактных и бессодержательных образах. Здоровая натура Алексея Толстого влекла его к реальным людям, реальной природе, реальным конфликтам. Он понимает, что уж слишком похожими оказываются все те, кто приходил к Вячеславу Иванову, рабски копируя манеру метра символизма. Сами по себе разные и колоритные в жизни, в стихах они оказывались одинаковыми.
Бальмонт, Брюсов, Блок, Белый, Вячеслав Иванов стали «столпами» символизма именно в силу того, что они никому не подражали, шли не проторенными в русской поэзии путями. Шедшие же за ними следом ничего нового своим читателям не дали. Первые символисты поразили Толстого своей высокой филологической культурой, широтой и глубиной образования. Он терялся и многого не понимал на «средах» Вячеслава Иванова, особенно когда в разговор вступали Андрей Белый, Брюсов, Бальмонт, Мережковский. Ещё несколько лет назад Толстой просто благоговел перед этими метрами. А что теперь? Ведь многие уже стали отходить от избранного ранее пути, ищут чего-то нового, более созвучного времени.
Даже Андрей Белый, казавшийся таким далёким от современных вопросов и проблем, и то заговорил в своём творчестве о жизни как источнике художественных исканий. В предисловии ко второму своему сборнику стихов «Пепел» (1909 г.) он впервые, может быть, выводит свою поэзию из сферы условных и абстрактных красивостей в мир реальных сложностей и трагических противоречий. Если в первом сборнике поэт предстает пророком, пусть осмеянным и непонятым, то теперь Андрей Белый утверждает поэта как гражданина своей страны, кровно и близко воспринимающего всё, что совершается в мире. «Действительность всегда выше искусства, и потому-то художник прежде всего человек». К этому выводу теоретик символизма пришёл только после революции 1905 года. Совесть поэта уже не позволяет ему уноситься в надзвёздные миры или придумывать несуществующих фавнов и кентавров.
Работая над сказками, песнями, изучая первоисточники народного творчества, Алексей Толстой много думал в эти дни о народе. Но его отношение к народу было скорее пассивно-созерцательным: он гордится Россией, её культурой, только смотрит на народ как бы издалека. Он собирал сказки, песни, афоризмы, возмущался теми, кто искажал и упрощал народное творчество.
Совсем недавно ему казалось, что вся жизнь и личность художника – стройная система антиномий, как говаривали на «средах» Вячеслава Иванова, что только художник обладает правом и обязанностью восходить от каждого частного проявления к мировой душе и погружать себя в беспредельность, что только художник является беспощадным отрицателем мира, и никто не знает, как он, насколько ничтожен весь пир мироздания перед чистой грёзой о совершенном… Совсем недавно ему казалось, что такое искусство требует соответственного утончения и преображения самого художника, отрыва его от всего земного, потому что искусство выше жизни. Теперь его увлекают идеи саморастворения художественной личности в народной стихии.
Нет, он должен писать о том, что хорошо знает, что сам или его близкие пережили и передумали. Он должен восстановить как художник недавно минувшую жизнь со всеми её достоинствами и недостатками, со всеми её болями, радостями, противоречиями. Тем более что складывалась благоприятная творческая обстановка: «Аполлон» заинтересован в нём как прозаике. А в том, что он создаст нечто новое в задуманном цикле повестей и рассказов, Алексей Толстой ничуть не сомневался.
И тут произошло одно событие, которое надолго привлекло внимание.
Вечером 19 ноября 1909 года в мастерской Александра Головина, художника Мариинского театра, соберутся ближайшие сотрудники нового журнала «Аполлон», такие как Волошин, Гумилёв, Кузмин, Вячеслав Иванов, Брюсов, Анненский, Сергей Маковский. Может быть, придёт и Блок. И Головин напишет коллективный портрет. Среди этих знаменитостей будет и Алексей Толстой. И, собираясь в мастерскую Головина, Алексей Толстой невольно вспоминал встречи и разговоры с этим замечательным художником и человеком. Кто только не бывал в его мастерской!.. Серов, Константин Коровин, братья Васнецовы, Поленов, Врубель, Малютин, Дягилев, Бенуа, Философов…
Алексей Толстой высоко ценил эскизы декораций к «Кармен», где талант Головина как театрального художника раскрылся в полную силу. Головин оформлял «Руслана и Людмилу», «Дон-Кихота», «Призраки» и «Женщину с моря» Ибсена, «Лебединое озеро»… Слышал Толстой и многочисленные упрёки в адрес Головина, особенно со стороны консерваторов в искусстве: дескать, его декорации, пышные костюмы порой заслоняют сущность пьесы, а в результате возникает противоречие между внешней формой и содержанием спектаклей. Но всё чаще и чаще о Головине говорили как об умном человеке, изумительно талантливом художнике, изобретательность которого неисчерпаема, а как колористу ему нет равных в мире. Говорили, что Роден был потрясён великолепием постановки «Бориса Годунова» во время показа этого спектакля в Париже…
Александр Головин уже не раз обдумывал композицию коллективного портрета. Сначала все приглашенные собрались у него и обсудили расположение фигур, договорились, кто будет стоять, кто сидеть. При таком обилии людей на картине самое главное – не впасть в фотографичность. Вот и обдумывал Александр Головин, как он будет работать… Близилось время «сходки», поздно будет обдумывать, нужно уже сейчас работать: «В центре надобно расположить Иннокентия Анненского, который, естественно, будет во фраке, а может, в смокинге. Его прямая, строгая фигура с гордо поднятой головой, в высоком тугом воротничке и старинном галстуке должна стать как бы стержнем всей композиции… Вокруг него расположатся остальные, кто стоя, кто сидя… – Александр Головин набрасывал карандашом композицию предполагаемого коллективного портрета. – Кузмин пусть станет вполоборота, в позе как бы остановившегося движения. Он будет вторым, что ли, центром портрета, уж очень своеобразное лицо. Да и, пожалуй, среди поэтов «Аполлона» – самый выдающийся талант. Поклоняюсь его таланту, совершенно необыкновенный, поразительный поэт… Его мастерство в передаче сокровенных впечатлений человеческой души исключительно. Не знаю, кто лучше его способен выразить в стихах «интимные», домашние настроения, тихие радости, озаряющие нас в лучшие минуты жизни…»
Внизу уже собирались музыканты, настраивали инструменты, раздавались команды, голоса работников сцены. Все уже начали готовиться к спектаклю. Уж Фёдор-то Иванович Шаляпин наверняка пришёл…
Но замысел коллективного портрета совершенно неожиданно был разрушен и на неопределённое время отложен.
Кто-то пустил нехороший слух о молодой поэтессе Елизавете Дмитриевой, только что опубликовавшей в «Аполлоне» стихи под именем Черубины де Габриак, а сплетню приписали Николаю Гумилёву. Волошин принял близко к сердцу эту сплетню и поверил, что Гумилёв мог быть первоисточником её. И в этот день в присутствии многочисленных посетителей мастерской грубо оскорбил Гумилёва, который незамедлительно вызвал его на дуэль…
На следующий день Алексей Толстой, секундант Волошина, озабоченный предстоящими переговорами о дуэли с секундантами Гумилёва – Зноско-Боровским и Кузминым, ничем серьёзным заниматься не мог, просто листал газеты, пестрящие новостями. Наконец ему позвонил художник Шервашидзе, второй секундант Волошина, и сказал ему, что переговоры о дуэли будут проходить в ресторане Альберта.
Секунданты Гумилёва сразу заявили, что Николай Степанович предлагает стреляться с расстояния в пять шагов до тех пор, пока один из противников не будет убит. Алексей Толстой, зная о невиновности Гумилёва и чрезмерной горячности Волошина, настоял «на пятнадцати шагах и только по одному выстрелу». Пришлось ещё раз заглянуть в дуэльный кодекс Дурасова. Секунданты уходили и вновь собирались в ресторане: Гумилёв настаивал на своём. Сколько пришлось просидеть в ресторане, прежде чем условия были согласованы! Лишь в конце следующего дня Гумилёв принял выработанные условия…
Нет, и эти два дня до дуэли Алексей Толстой не работал, не было настроения. Гумилёв не выходил из головы. Прямой, резкий, даже чуть-чуть надменный, он не прощал оплошностей, слабостей ни себе, ни другим. Мысли о нём мешали Толстому сосредоточиться на новой повести «Заволжье», которую он начал сразу же после «Недели в Туреневе»…