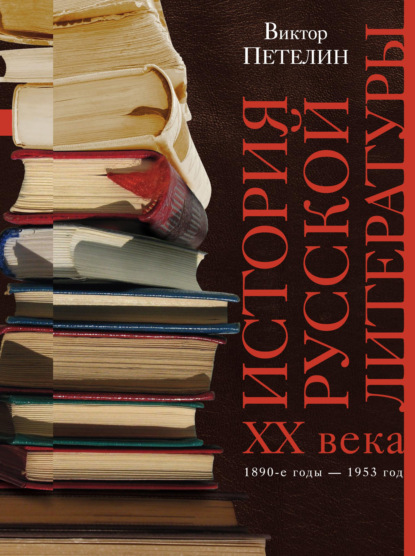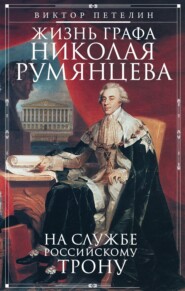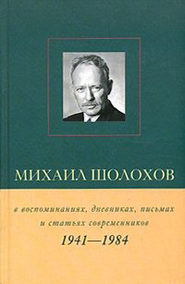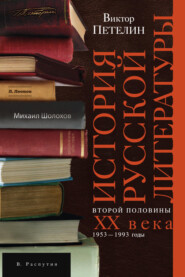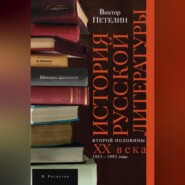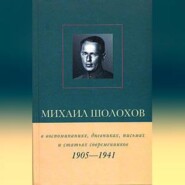По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История русской литературы XX века. Том I. 1890-е годы – 1953 год. В авторской редакции
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Арцыбашев тут же взялся заменить В. Пяста. И долго ещё раздавался его неприятный писклявый голос…
Всем было неловко, настолько прочитанное было непонятно, непривычно здесь. Разумеется, никакого диспута эта вещь А. Каменского не вызвала. Выступил только Вячеслав Иванов, по обыкновению своему то и дело вскидывая руку к пенсне, вспоминали современники, а потом, довольно потирая руки, осыпал автора пригоршнями изысканных любезностей, смысл которых был настолько туманен, настолько тонул в выспренней витиеватости и глубокомыслии слов, что не только присутствующие здесь, но и сам автор, кажется, ничего не поняли. После этого ничего не оставалось делать, как разойтись.
В конце вечера начиналась беседа на какую-нибудь религиозно-философскую тему. Ни у кого не возникало сомнений, что председателем должен быть Н.А. Бердяев. «Молодой человек, – вспоминает В. Пяст, – довольно высокий, с красивой гривою волос, он, как многие помнят, был страшно обезображен (в отношении наружности) тогда ещё только начинавшим разыгрываться «тиком». Бердяев был большим мастером «разговора».
В разгар революционных событий Нестор Котляревский упрекнул собравшихся здесь в том, что они ушли от общественной жизни, замкнулись в кругу эстетических проблем. Выступление его было встречено по-разному. Одни иронизировали над ним, зная, что сам-то Котляревский не очень активен в общественной жизни, другие сочувственно кивали, понимая всю свою бесполезность в решающие мгновения исторической жизни.
«Среды» стали привлекать всё больше и больше посетителей, различных по своим идейно-художественным исканиям. Бывали В.А. Нувель, А.П. Нурок и другие члены кружка «Мир искусства». А.В. Луначарский и некоторые другие марксисты не раз приходили сюда…
Полиция заинтересовалась этими собраниями и 27 декабря 1905 года нагрянула к Вячеславу Иванову с обыском. Во втором часу ночи небольшой отряд агентов и солдат во главе с действительным статским советником неожиданно для собравшихся вошёл в квартиру и сразу занял все входы и выходы. На чердаке нашли два номера «Революционной России», ввоз которой из-за границы был запрещён. Вот и всё, что нашли нелегального в квартире Вячеслава Иванова. Но все присутствовавшие прошли через унизительную процедуру обыска и допроса. Подходили к столу, за которым составлялся протокол, называли себя, выворачивали карманы, ловкие руки филёров ласково проходились сверху вниз по одежде, и наступала очередь следующего.
Этот обыск, конечно, ничего не дал, были задержаны молодой философ Л.Е. Галич да мать Макса Волошина, пожилая полная дама со стрижеными вьющимися волосами, недавно прибывшие из-за границы.
Вячеслав Иванов горячо протестовал против незаконных действий полиции:
– Вы нарушаете священную неприкосновенность жилища, свободу личности.
– А это что? – потрясая двумя номерами «Революционной России», спокойно возражал ему действительный статский советник.
– Мы же – заграничники, – оправдывался Вячеслав Иванов.
Всё обошлось, только у Д.С. Мережковского пропала шапка, дорогая, бобровая. В одном из ближайших номеров «Товарища» («Наша жизнь», «Речь», газета Л.В. Ходского) он опубликовал «Письмо в редакцию» («Куда девалась моя шапка?»), в котором, обращаясь непосредственно к премьер-министру С.Ю. Витте, требовал возвращения своей шапки. Разговоры об этой шапке долго ещё ходили в петербургских кругах.
В «Дневниках» Валерия Брюсова есть такая запись: «Зима 1908–1909. «Дом песен». «Эстетика», Гр. А. Толстой в Москве. Гипнотические сеансы у д-ра Катерева. Поездка в Петербург. Две недели в Петербурге. Посещение Бенуа. У Маковского переговоры о «Аполлоне».
Гр. А. Толстой, «Салон» и лекция Макса Волошина. Вечера с Вяч. Ивановым. Его лекция. Не был у Сологуба, который обиделся».
Сколько здесь встреч, разговоров, заседаний, споров, известных имён! А между тем дважды упоминается граф А. Толстой. В литературных кругах имя Алексея Толстого становится известным. Ещё в Париже Алексей Толстой расспрашивал Волошина о том, почему вдруг так ожесточённо атаковали друг друга две дружественные группы: Иванов, Чулков, Блок, Городецкий с одной стороны, и Брюсов, Белый, Эллис – с другой. «Золотое руно», «Факелы», «Ор», а против них – «Скорпион», «Весы», «Перевал». Мудрый Волошин так объяснил ему этот парадокс: символистов и декадентов стали принимать повсюду, они завоевали все литературные салоны, их стали печатать почти во всех газетах и журналах. Тогда-то и обнаружились внутренние противоречия в самом символизме. Группа Иванова относилась ко всем теориям как к игре, правила которой можно принимать, а можно при удобном случае от них отказаться. Московские символисты упрямо держались за свои позиции и стойко отстаивали их. И когда заметили, что в Петербурге договорились до «мистического анархизма», открыли изо всех своих московских орудий критический огонь против «путаников». Особенно яростным был Андрей Белый.
Сейчас уже несколько остыла декадентская шумиха. Вячеслав Великолепный стал суше, серьёзней, сбрил бороду и усы, как-то подтянулся, откровенно засеребрились его поникшие локоны. Но по-прежнему он поражал своей эрудицией, своими познаниями ритмики, стихосложения вообще.
К этому времени его студия уже значительно расширилась, поглотив две соседние квартиры, и представляла собой обширнейшее помещение, в котором причудливо сочетались большие квадратные комнаты и какие-то коридорчики, книжные полки, качающиеся этажерки. Одни комнаты напоминали музей, другие – точно сарай. Пройдёшь по всей этой квартире и забудешь, по словам Белого, в какой ты стране, в каком времени. Всё это походило действительно на «становище», по меткому выражению Д.С. Мережковского. Быт этого дома исключительный, неповторимый, но вдумчивые посетители поняли: серьёзно втягиваться в такую жизнь не стоит.
«Вячеслав Великолепный просыпался часа в три дня, до семи, не вставая с дивана, работал, читал корректуры, рукописи, писал статьи, стихи, попивая черный чай, подаваемый прямо в постель; часам к восьми вечера, отдохнувший, посвежевший, являлся к обеду. Часов до одиннадцати бывал у друзей с визитами, а к одиннадцати начиналась ночная жизнь в «Башне». Чай подавался не ранее полночи; до – разговоры отдельные в «логовах» разъединенных; в оранжевой комнате у Вячеслава, бывало, совет Петербургского религиозно-философского общества. У падчерицы собираются курсистки. В комнате Михаила Кузмина можно встретить сотрудников и авторов журнала «Аполлон», Гумилёва, Садовскую, Зноско-Боровского, Сергея Маковского. К двум исчезают «чужие», Иванов, сутулясь в накидке, став очень уютным, лукавым, с потугом своих зябких рук, перетрясывает золотою копною, упавшей на плечи… Являлся второй самовар: часа в три; и тогда к Кузмину:
– Вы, Михаил Алексеевич, – спойте.
М.А. Кузмин – за рояль: петь стихи свои, аккомпанируя музыкой, им сочиняемой, – хриплым, надтреснутым голосом, а выходило чудесно», – вспоминал А. Белый.
Андрей Белый подолгу жил у Вячеслава Иванова. Вот он вспоминает это время: «Утро, – правильный день: вставал в час, попадал к самовару, в столовую, дальнюю, около логовища Кузмина. Кузмин в русской рубахе без пояса гнётся, бывало, над рукописью под парком самовара; увидев меня, наливает мне чай, занимает меня разговором, с раскуром: уютный, чернявый, морщавый, домашний и лысенький; чуть шепелявит; сидит, вдруг пройдётся, и сядет; «здесь» – очень простой; в «Аполлоне» – далёкий, враждебный, подтянутый и элегантный; он – антагонист символистам; на «Башне» влетело ему от Иванова; этот последний привяжется: ходит, журит, угрожает, притоптывает, издевается над «Аполлоном»; Кузмин просто ангел терпенья, моргает, покуривает, шепелявит: «Да что вы, да нет!» А потом тихомолком уйдет в «Аполлон»: строчит колкость по нашему адресу; – и неприятный «сюрприз». И – разносы опять. Вячеслав любил шуточные поединки, стравливая меня с Гумилёвым, являвшимся в час, ночевать (не поспел в свое Царское), в чёрном, изысканном фраке, с цилиндром, в перчатках; сидел, точно палка, с надменным, чуть-чуть ироническим, но добродушным лицом; и парировал видом наскоки Иванова».
Однажды, как обычно в «Башне» Вячеслава Иванова, горячо заспорили о новых путях в искусстве. Слушая нападки Гумилёва на символистов, Вячеслав Иванов, шутливо подмигивая, обращаясь к Андрею Белому, сказал, что у Гумилёва нет собственной позиции, ему надо помочь. Андрей Белый поддержал иронию Вячеслава Иванова и тут же пустился развивать теоретическую платформу нового направления в искусстве, предложив назвать его «адамизмом». Включился в разговор Вячеслав Иванов. В горячем споре было брошено кем-то словечко «акмэ», остриё.
Гумилёв, не теряя своего бесстрастия, тут же подхватил: «Вы только что сочинили позицию – против себя: покажу уже вам «акмеизм».
«Иванов трепал Гумилёва; но очень любил; и всегда защищал в человеческом смысле, доказывая благородство свое в отношении к идейным противникам; всё-таки он – удивительный, великолепнейший, добрый, незлобивый. Сколько мне одному напростил он!» – вспоминал Андрей Белый.
Трудно было разобраться в том, что же исповедует Вячеслав Иванов, символист он или акмеист. Ведь когда он заходил в «Аполлон», то ничем не отличался от собравшихся здесь дионисовцев. В своём издательстве «Факелы», в своих статьях он высказывался против них, иронизировал. Может, и вправду он – идейная кокетка, как иной раз его называют. То проявляется в нём ригорист, фанатический схематизатор, то в сложных идейных интригах с наивным лукавством пытался лавировать, скрываясь под маской добродушного каламбуриста, ради собственного удовольствия играющего столь различные роли. Для него не было врагов. Только видимость одна, что враги. Стоит ему захотеть, как смело подходил к ним и начинал разговор, в итоге которого недавние враги расставались примирёнными. «А Иванов, уходя, похохатывал: ничего ему не нужно от этого разговора, его увлекал сам процесс игры. Вот почему с одинаковым радушием встречал он у себя на «Башне» всех, от Мережковского до Чапыгина и Луначарского, пленяя каждого своей мягкой добротой, рассеянностью, бескорыстием. Победил, – и уже: затевает с другим свою «партию», ни для чего ему эти «победы», так: шахматы после обеда!
В серьезном умел, независимо вскинувши голову, требовать как Мережковский: «Все иль ничего!» Да, фигура не проста! В ней интерферировала простота изощренностью, вкрадчивость безапелляционностью, побагровеет и примется в нос он кричать: неприятный и злой, станет жутко: кричащая эта фигура – химера: отходчив», – писал позднее в воспоминаниях А. Белый.
В Вячеславе Иванове нравилась ещё одна черта – верность, преданность своим друзьям и союзникам. Брюсов и П.Б. Струве отвергли роман Андрея Белого. Прочитал В. Иванов. Несколько раз Белый читал на «Башне» отрывки своего романа. Вячеслав Иванов, возбуждаясь, сверкая глазами, восклицал, что этот роман – эпоха. И не только на «Башне», но и повсюду, где бывал. И вскоре из-за этого романа началась «драка» между издателями, а до этого они оставались равнодушными к нему. Так появился в печати «Петербург» А. Белого.
Одним из центров литературной жизни стал А.М. Ремизов. Об Алексее Михайловиче Ремизове много тогда говорили: уж больно выделялся он среди своих современников. Рассказывали, что однажды на очередном «воскресенье» Василия Васильевича Розанова, проходившем, как всегда, нелепо и весело, Алексей Михайлович долго бродил среди гостей, все к этому давно привыкли, и никто на него не обращал внимания. Сам Василий Васильевич кому-то нашёптывал свои оригинальные мысли; статный философ Бердяев доказывал свою правоту священнику Григорию Петрову, а Григорий Петров, играя крестом на груди, то и дело облизывая сочные красные губы, страстно ругал декадентов; Дмитрий Сергеевич Мережковский, маленький, тщедушный, иронически посматривал на крупнотелых Бердяева и Петрова, а потому и отвечал невпопад на все расспросы; здесь же был рыжеусый Бакст, пронзительно поглядывавший по сторонам; Константин Сомов, уже прославленный художник, изнеженный и тонкий, независимо переходил от группы к группе разговаривавших. И вдруг произошла страшная «безобразица». Алексей Михайлович Ремизов, увидев в качалке массивного Бердяева, быстро подскочив к нему, ловким сильным движением так качнул качалку, что она тут же перевернулась. Скандал разразился страшный. Только Василий Васильевич невозмутимо продолжал беседовать да виновник скандала, поблёскивая очками, спокойно выискивал себе очередную жертву подобного розыгрыша.
На Алексея Михайловича не обижались, всякий раз восхищали его выдумки, розыгрыши. Иных раздражали «смешочки» и намеки Ремизова, иные обижались на него, не понимая: то ли безобидны они, то ли злы, то ли простодушен Ремизов, то ли хитёр, себе на уме. Почти все оказывались жертвами его розыгрышей. Многие любили шутку, розыгрыши, анекдоты, и всё, что было связано с весельем, охотно принималось в обществе, да и сами частенько «ввязывались» в весёлые затеи. И когда кое-кто из его новых знакомых обижались на Ремизова, спокойно всякий раз говорили им:
– Да что вы? Но не сердитесь на Алексея Михайловича. Это умнейший, честнейший, серьёзнейший человек, насквозь видящий каждого. И вспомните, что он вынес в царской тюрьме: садист-жандарм насильно выгонял его из камеры, заставляя без конвоя прогуливаться по городу, даже брал в театр, а по тюрьме прокатился слух, что Ремизов – провокатор. Разве такое не запомнится на всю жизнь… Его юродство – это маска боли…
Бывали эти суетливые вечера и у Фёдора Сологуба. Сначала здесь было скучно, холодновато. Хозяин чаще всего угрюмо, словно угрожающе помалкивал, ко всему приглядывался, как бы пересчитывая собравшихся. И всё-таки что-то тянуло к нему. Сологуб бывал всегда тих и скромен, но стоило ему заговорить, и все переполошались, ни одного заемного слова, никакой аффектации, всё естественно, умно, логично. Во всех его суждениях сказывался оригинальный талант, глубокая человеческая личность, в каждой его фразе проявлялся большой мастер-художник.
Круто изменилась жизнь знаменитого писателя; после смерти сестры, которая вела его домашнее хозяйство, Фёдор Кузьмич сбрил усы и бороду, женился на Анастасии Чеботаревской и совсем стал похож на римского сенатора, гордого, богатого и неприступного. В то время ещё ходили по Петербургу его злые пародии на духовенство и власть имущих. «Стоят три фонаря – для вешания трех лиц: средний – для царя, а сбоку – для цариц». Но конечно, не эти пародии прославили его имя. Роман «Мелкий бес», восемь сборников стихов, пьесы «Дар мудрых пчёл», «Победа смерти», «Ночные пляски», «Ванька, Ключник и Паж Жеан», наконец, роман-трилогия «Навьи чары» поставили его в ряд выдающихся современных писателей. Он снял новую квартиру, пышно её обставил, стал оживлённее и изысканнее, потому что и к нему – новой знаменитости – зачастили щебечущие барышни. Незаметно он приобрёл большой вес в литературных кругах своими строгими, но справедливыми решениями в конфликтных ситуациях. А с женитьбой он стал больше бывать на людях, участвовать в маскарадах, устраивать шутливые вечера у себя.
В салоне М.К. Морозовой, богатой меценатки, тоже бывали приёмы. После смерти мужа для неё началась новая жизнь. До этого она тосковала в поисках смысла жизни. Теперь решила наверстать упущенное. Начала учиться у Александра Скрябина. Открыла у себя «салон», в котором бывали люди разных направлений, разных убеждений. Она, ничего не понимая во всей этой развернувшейся борьбе, с какой-то ненасытной жадностью устраивала тет-а-теты с Лопатиным, Хвостовым, Фортунатовым, Андреем Белым, Борисом Фохтом, пианисткой Фохт-Сударской, близкой к эсерам. А выслушав этих собеседников, она устраивала собеседования с далёкими от первых по своим взглядам Рачинским, Эрном, Свентицким, а после этих у неё появлялись Милюков, присяжный поверенный Сталь, близкий к меньшевикам. Так что к концу всех её собеседований в голове богатой меценатки все философские и политические течения перепутывались в какую-то «кашицу».
Возможно, именно эти качества «всеядности» и терпимости к различным мнениям позволили Маргарите Кирилловне приглашать к себе столь разных людей. В салоне М.К. Морозовой все улыбались друг другу, делая вид, что между ними нет никаких споров и разногласий. И вот это привлекало остротой ощущений, новизной человеческих отношений. Лопатин – яростный тигр в других местах, у Морозовой становился тигром в наморднике. Маргарита Кирилловна с ласковой улыбкой встречала его, а вслед за ним с такой же ласковой улыбкой встречала и его противников, и тут уж не могло быть никаких распрей и споров. Хозяйка салона создала такой стиль поведения, что, кроме приятных улыбок, никто ничего себе не позволял.
По отзывам современников, М.К. Морозова, не разбираясь во всех противоречиях современных ей течений общественной мысли, искусства, науки, литературы, вместе с тем обладала удивительным свойством мирить непримиримых людей. И её салон сыграл видную роль в развитии культуры той поры.
Через переднюю в египетском стиле гости попадали в большой, неуютный, холодный зал, где гулко раздавались шаги, как в пустом музее. Зато приёмная – очень уютна, устлана мягким, серым ковром. В приёмной гостей не заставляли ждать. Из спальни вышла улыбающаяся женщина высокого роста, доброжелательно поприветствовала их, присела на низкий диван, приглашая садиться и гостей. Тут же принесли чайный столик, и потекла обычная светская беседа обо всём и ни о чём. Вроде бы ничего и не узнал нового для себя, а выходили из квартиры Морозовой как окрылённые: столько доброты было в ней, такта, сопереживания с собеседником всех его сложностей и проблем.
И всё-таки, бывая повсюду, молодые символисты не переставали мечтать об организации своего сообщества молодых художников слова. Вскоре их мечта осуществилась. Но этому событию предшествовала, казалось бы, обычная встреча на одной из «сред» Вячеслава Иванова с молодым поэтом Сергеем Городецким.
Прочитанные им стихи были встречены такими аплодисментами, какие редко здесь раздавались. Высокий, нескладный, с длинным носом, он производил странное впечатление. Да и читал-то он как-то торопливо, проглатывая окончания слов, но сами стихи поразили всех глубоким проникновением в тайны древнего славянского бытия.
Удрас и Барыба,
Две темные глыбы,
Уселись рядком…
Вот черта – это глаз,
Вот дыра – это нос,
Покраснела трава,
Заалелся откос,
И у ног
В красных пятнах лежал
Новый бог…
Читал молодой поэт, и все собравшиеся сразу поняли, что перед ними подлинный, настоящий художник, с искрой Божией.
После аплодисментов быстро вскочил Вячеслав Иванов и сказал, что все мы только что испытали тот «новый трепет», который, как говорил Бодлер, сопровождает рождение нового поэта, нового бога.
Вячеслав Иванов, говоривший всегда очень изысканно, на этот раз превзошел самого себя.
Долго ещё возбуждённо говорили и спорили о стихах молодого «Ярилы», как в шутку стали называть Сергея Городецкого, а он сам почти ничего не услышал из того, что говорилось о нём.
Александр Рославлев сразу завладел юным поэтом, проговорив с ним до утра.
Морозова не только принимала гостей, с 1909 года она создала религиозно-философское издательство «Путь», существовавшее до 1917 года, в котором вышли книги Чаадаева и Ивана Киреевского, монографии о Хомякове и Сковороде; сборники о богословии, «Философия свободы» Бердяева, «Два града», «Философия хозяйства» и «Свет невечерний» С. Булгакова, «Столп и утверждение истины» Павла Флоренского, «Миросозерцание Вл. Соловьёва» князя Евг. Трубецкого, книги Эрна, опубликовали переводы блаженного Августина, Паскаля, Джордано Бруно…
Именно Сергею Городецкому пришла в голову мысль создать «Кружок молодых», который должен чем-то отличаться от собраний Вячеслава Иванова. В «Кружок молодых» входили Александр Блок, Сергей Городецкий, Владимир Пяст, Александр Кондратьев, получивший единственную премию за стихи на конкурсе, устроенном журналом «Золотое руно» в 1906 году, П. Потёмкин, Б.С. Мосолов, Н.В. Недоброво, Е.П. Иванов, раза два бывал Андрей Белый.
Всем было неловко, настолько прочитанное было непонятно, непривычно здесь. Разумеется, никакого диспута эта вещь А. Каменского не вызвала. Выступил только Вячеслав Иванов, по обыкновению своему то и дело вскидывая руку к пенсне, вспоминали современники, а потом, довольно потирая руки, осыпал автора пригоршнями изысканных любезностей, смысл которых был настолько туманен, настолько тонул в выспренней витиеватости и глубокомыслии слов, что не только присутствующие здесь, но и сам автор, кажется, ничего не поняли. После этого ничего не оставалось делать, как разойтись.
В конце вечера начиналась беседа на какую-нибудь религиозно-философскую тему. Ни у кого не возникало сомнений, что председателем должен быть Н.А. Бердяев. «Молодой человек, – вспоминает В. Пяст, – довольно высокий, с красивой гривою волос, он, как многие помнят, был страшно обезображен (в отношении наружности) тогда ещё только начинавшим разыгрываться «тиком». Бердяев был большим мастером «разговора».
В разгар революционных событий Нестор Котляревский упрекнул собравшихся здесь в том, что они ушли от общественной жизни, замкнулись в кругу эстетических проблем. Выступление его было встречено по-разному. Одни иронизировали над ним, зная, что сам-то Котляревский не очень активен в общественной жизни, другие сочувственно кивали, понимая всю свою бесполезность в решающие мгновения исторической жизни.
«Среды» стали привлекать всё больше и больше посетителей, различных по своим идейно-художественным исканиям. Бывали В.А. Нувель, А.П. Нурок и другие члены кружка «Мир искусства». А.В. Луначарский и некоторые другие марксисты не раз приходили сюда…
Полиция заинтересовалась этими собраниями и 27 декабря 1905 года нагрянула к Вячеславу Иванову с обыском. Во втором часу ночи небольшой отряд агентов и солдат во главе с действительным статским советником неожиданно для собравшихся вошёл в квартиру и сразу занял все входы и выходы. На чердаке нашли два номера «Революционной России», ввоз которой из-за границы был запрещён. Вот и всё, что нашли нелегального в квартире Вячеслава Иванова. Но все присутствовавшие прошли через унизительную процедуру обыска и допроса. Подходили к столу, за которым составлялся протокол, называли себя, выворачивали карманы, ловкие руки филёров ласково проходились сверху вниз по одежде, и наступала очередь следующего.
Этот обыск, конечно, ничего не дал, были задержаны молодой философ Л.Е. Галич да мать Макса Волошина, пожилая полная дама со стрижеными вьющимися волосами, недавно прибывшие из-за границы.
Вячеслав Иванов горячо протестовал против незаконных действий полиции:
– Вы нарушаете священную неприкосновенность жилища, свободу личности.
– А это что? – потрясая двумя номерами «Революционной России», спокойно возражал ему действительный статский советник.
– Мы же – заграничники, – оправдывался Вячеслав Иванов.
Всё обошлось, только у Д.С. Мережковского пропала шапка, дорогая, бобровая. В одном из ближайших номеров «Товарища» («Наша жизнь», «Речь», газета Л.В. Ходского) он опубликовал «Письмо в редакцию» («Куда девалась моя шапка?»), в котором, обращаясь непосредственно к премьер-министру С.Ю. Витте, требовал возвращения своей шапки. Разговоры об этой шапке долго ещё ходили в петербургских кругах.
В «Дневниках» Валерия Брюсова есть такая запись: «Зима 1908–1909. «Дом песен». «Эстетика», Гр. А. Толстой в Москве. Гипнотические сеансы у д-ра Катерева. Поездка в Петербург. Две недели в Петербурге. Посещение Бенуа. У Маковского переговоры о «Аполлоне».
Гр. А. Толстой, «Салон» и лекция Макса Волошина. Вечера с Вяч. Ивановым. Его лекция. Не был у Сологуба, который обиделся».
Сколько здесь встреч, разговоров, заседаний, споров, известных имён! А между тем дважды упоминается граф А. Толстой. В литературных кругах имя Алексея Толстого становится известным. Ещё в Париже Алексей Толстой расспрашивал Волошина о том, почему вдруг так ожесточённо атаковали друг друга две дружественные группы: Иванов, Чулков, Блок, Городецкий с одной стороны, и Брюсов, Белый, Эллис – с другой. «Золотое руно», «Факелы», «Ор», а против них – «Скорпион», «Весы», «Перевал». Мудрый Волошин так объяснил ему этот парадокс: символистов и декадентов стали принимать повсюду, они завоевали все литературные салоны, их стали печатать почти во всех газетах и журналах. Тогда-то и обнаружились внутренние противоречия в самом символизме. Группа Иванова относилась ко всем теориям как к игре, правила которой можно принимать, а можно при удобном случае от них отказаться. Московские символисты упрямо держались за свои позиции и стойко отстаивали их. И когда заметили, что в Петербурге договорились до «мистического анархизма», открыли изо всех своих московских орудий критический огонь против «путаников». Особенно яростным был Андрей Белый.
Сейчас уже несколько остыла декадентская шумиха. Вячеслав Великолепный стал суше, серьёзней, сбрил бороду и усы, как-то подтянулся, откровенно засеребрились его поникшие локоны. Но по-прежнему он поражал своей эрудицией, своими познаниями ритмики, стихосложения вообще.
К этому времени его студия уже значительно расширилась, поглотив две соседние квартиры, и представляла собой обширнейшее помещение, в котором причудливо сочетались большие квадратные комнаты и какие-то коридорчики, книжные полки, качающиеся этажерки. Одни комнаты напоминали музей, другие – точно сарай. Пройдёшь по всей этой квартире и забудешь, по словам Белого, в какой ты стране, в каком времени. Всё это походило действительно на «становище», по меткому выражению Д.С. Мережковского. Быт этого дома исключительный, неповторимый, но вдумчивые посетители поняли: серьёзно втягиваться в такую жизнь не стоит.
«Вячеслав Великолепный просыпался часа в три дня, до семи, не вставая с дивана, работал, читал корректуры, рукописи, писал статьи, стихи, попивая черный чай, подаваемый прямо в постель; часам к восьми вечера, отдохнувший, посвежевший, являлся к обеду. Часов до одиннадцати бывал у друзей с визитами, а к одиннадцати начиналась ночная жизнь в «Башне». Чай подавался не ранее полночи; до – разговоры отдельные в «логовах» разъединенных; в оранжевой комнате у Вячеслава, бывало, совет Петербургского религиозно-философского общества. У падчерицы собираются курсистки. В комнате Михаила Кузмина можно встретить сотрудников и авторов журнала «Аполлон», Гумилёва, Садовскую, Зноско-Боровского, Сергея Маковского. К двум исчезают «чужие», Иванов, сутулясь в накидке, став очень уютным, лукавым, с потугом своих зябких рук, перетрясывает золотою копною, упавшей на плечи… Являлся второй самовар: часа в три; и тогда к Кузмину:
– Вы, Михаил Алексеевич, – спойте.
М.А. Кузмин – за рояль: петь стихи свои, аккомпанируя музыкой, им сочиняемой, – хриплым, надтреснутым голосом, а выходило чудесно», – вспоминал А. Белый.
Андрей Белый подолгу жил у Вячеслава Иванова. Вот он вспоминает это время: «Утро, – правильный день: вставал в час, попадал к самовару, в столовую, дальнюю, около логовища Кузмина. Кузмин в русской рубахе без пояса гнётся, бывало, над рукописью под парком самовара; увидев меня, наливает мне чай, занимает меня разговором, с раскуром: уютный, чернявый, морщавый, домашний и лысенький; чуть шепелявит; сидит, вдруг пройдётся, и сядет; «здесь» – очень простой; в «Аполлоне» – далёкий, враждебный, подтянутый и элегантный; он – антагонист символистам; на «Башне» влетело ему от Иванова; этот последний привяжется: ходит, журит, угрожает, притоптывает, издевается над «Аполлоном»; Кузмин просто ангел терпенья, моргает, покуривает, шепелявит: «Да что вы, да нет!» А потом тихомолком уйдет в «Аполлон»: строчит колкость по нашему адресу; – и неприятный «сюрприз». И – разносы опять. Вячеслав любил шуточные поединки, стравливая меня с Гумилёвым, являвшимся в час, ночевать (не поспел в свое Царское), в чёрном, изысканном фраке, с цилиндром, в перчатках; сидел, точно палка, с надменным, чуть-чуть ироническим, но добродушным лицом; и парировал видом наскоки Иванова».
Однажды, как обычно в «Башне» Вячеслава Иванова, горячо заспорили о новых путях в искусстве. Слушая нападки Гумилёва на символистов, Вячеслав Иванов, шутливо подмигивая, обращаясь к Андрею Белому, сказал, что у Гумилёва нет собственной позиции, ему надо помочь. Андрей Белый поддержал иронию Вячеслава Иванова и тут же пустился развивать теоретическую платформу нового направления в искусстве, предложив назвать его «адамизмом». Включился в разговор Вячеслав Иванов. В горячем споре было брошено кем-то словечко «акмэ», остриё.
Гумилёв, не теряя своего бесстрастия, тут же подхватил: «Вы только что сочинили позицию – против себя: покажу уже вам «акмеизм».
«Иванов трепал Гумилёва; но очень любил; и всегда защищал в человеческом смысле, доказывая благородство свое в отношении к идейным противникам; всё-таки он – удивительный, великолепнейший, добрый, незлобивый. Сколько мне одному напростил он!» – вспоминал Андрей Белый.
Трудно было разобраться в том, что же исповедует Вячеслав Иванов, символист он или акмеист. Ведь когда он заходил в «Аполлон», то ничем не отличался от собравшихся здесь дионисовцев. В своём издательстве «Факелы», в своих статьях он высказывался против них, иронизировал. Может, и вправду он – идейная кокетка, как иной раз его называют. То проявляется в нём ригорист, фанатический схематизатор, то в сложных идейных интригах с наивным лукавством пытался лавировать, скрываясь под маской добродушного каламбуриста, ради собственного удовольствия играющего столь различные роли. Для него не было врагов. Только видимость одна, что враги. Стоит ему захотеть, как смело подходил к ним и начинал разговор, в итоге которого недавние враги расставались примирёнными. «А Иванов, уходя, похохатывал: ничего ему не нужно от этого разговора, его увлекал сам процесс игры. Вот почему с одинаковым радушием встречал он у себя на «Башне» всех, от Мережковского до Чапыгина и Луначарского, пленяя каждого своей мягкой добротой, рассеянностью, бескорыстием. Победил, – и уже: затевает с другим свою «партию», ни для чего ему эти «победы», так: шахматы после обеда!
В серьезном умел, независимо вскинувши голову, требовать как Мережковский: «Все иль ничего!» Да, фигура не проста! В ней интерферировала простота изощренностью, вкрадчивость безапелляционностью, побагровеет и примется в нос он кричать: неприятный и злой, станет жутко: кричащая эта фигура – химера: отходчив», – писал позднее в воспоминаниях А. Белый.
В Вячеславе Иванове нравилась ещё одна черта – верность, преданность своим друзьям и союзникам. Брюсов и П.Б. Струве отвергли роман Андрея Белого. Прочитал В. Иванов. Несколько раз Белый читал на «Башне» отрывки своего романа. Вячеслав Иванов, возбуждаясь, сверкая глазами, восклицал, что этот роман – эпоха. И не только на «Башне», но и повсюду, где бывал. И вскоре из-за этого романа началась «драка» между издателями, а до этого они оставались равнодушными к нему. Так появился в печати «Петербург» А. Белого.
Одним из центров литературной жизни стал А.М. Ремизов. Об Алексее Михайловиче Ремизове много тогда говорили: уж больно выделялся он среди своих современников. Рассказывали, что однажды на очередном «воскресенье» Василия Васильевича Розанова, проходившем, как всегда, нелепо и весело, Алексей Михайлович долго бродил среди гостей, все к этому давно привыкли, и никто на него не обращал внимания. Сам Василий Васильевич кому-то нашёптывал свои оригинальные мысли; статный философ Бердяев доказывал свою правоту священнику Григорию Петрову, а Григорий Петров, играя крестом на груди, то и дело облизывая сочные красные губы, страстно ругал декадентов; Дмитрий Сергеевич Мережковский, маленький, тщедушный, иронически посматривал на крупнотелых Бердяева и Петрова, а потому и отвечал невпопад на все расспросы; здесь же был рыжеусый Бакст, пронзительно поглядывавший по сторонам; Константин Сомов, уже прославленный художник, изнеженный и тонкий, независимо переходил от группы к группе разговаривавших. И вдруг произошла страшная «безобразица». Алексей Михайлович Ремизов, увидев в качалке массивного Бердяева, быстро подскочив к нему, ловким сильным движением так качнул качалку, что она тут же перевернулась. Скандал разразился страшный. Только Василий Васильевич невозмутимо продолжал беседовать да виновник скандала, поблёскивая очками, спокойно выискивал себе очередную жертву подобного розыгрыша.
На Алексея Михайловича не обижались, всякий раз восхищали его выдумки, розыгрыши. Иных раздражали «смешочки» и намеки Ремизова, иные обижались на него, не понимая: то ли безобидны они, то ли злы, то ли простодушен Ремизов, то ли хитёр, себе на уме. Почти все оказывались жертвами его розыгрышей. Многие любили шутку, розыгрыши, анекдоты, и всё, что было связано с весельем, охотно принималось в обществе, да и сами частенько «ввязывались» в весёлые затеи. И когда кое-кто из его новых знакомых обижались на Ремизова, спокойно всякий раз говорили им:
– Да что вы? Но не сердитесь на Алексея Михайловича. Это умнейший, честнейший, серьёзнейший человек, насквозь видящий каждого. И вспомните, что он вынес в царской тюрьме: садист-жандарм насильно выгонял его из камеры, заставляя без конвоя прогуливаться по городу, даже брал в театр, а по тюрьме прокатился слух, что Ремизов – провокатор. Разве такое не запомнится на всю жизнь… Его юродство – это маска боли…
Бывали эти суетливые вечера и у Фёдора Сологуба. Сначала здесь было скучно, холодновато. Хозяин чаще всего угрюмо, словно угрожающе помалкивал, ко всему приглядывался, как бы пересчитывая собравшихся. И всё-таки что-то тянуло к нему. Сологуб бывал всегда тих и скромен, но стоило ему заговорить, и все переполошались, ни одного заемного слова, никакой аффектации, всё естественно, умно, логично. Во всех его суждениях сказывался оригинальный талант, глубокая человеческая личность, в каждой его фразе проявлялся большой мастер-художник.
Круто изменилась жизнь знаменитого писателя; после смерти сестры, которая вела его домашнее хозяйство, Фёдор Кузьмич сбрил усы и бороду, женился на Анастасии Чеботаревской и совсем стал похож на римского сенатора, гордого, богатого и неприступного. В то время ещё ходили по Петербургу его злые пародии на духовенство и власть имущих. «Стоят три фонаря – для вешания трех лиц: средний – для царя, а сбоку – для цариц». Но конечно, не эти пародии прославили его имя. Роман «Мелкий бес», восемь сборников стихов, пьесы «Дар мудрых пчёл», «Победа смерти», «Ночные пляски», «Ванька, Ключник и Паж Жеан», наконец, роман-трилогия «Навьи чары» поставили его в ряд выдающихся современных писателей. Он снял новую квартиру, пышно её обставил, стал оживлённее и изысканнее, потому что и к нему – новой знаменитости – зачастили щебечущие барышни. Незаметно он приобрёл большой вес в литературных кругах своими строгими, но справедливыми решениями в конфликтных ситуациях. А с женитьбой он стал больше бывать на людях, участвовать в маскарадах, устраивать шутливые вечера у себя.
В салоне М.К. Морозовой, богатой меценатки, тоже бывали приёмы. После смерти мужа для неё началась новая жизнь. До этого она тосковала в поисках смысла жизни. Теперь решила наверстать упущенное. Начала учиться у Александра Скрябина. Открыла у себя «салон», в котором бывали люди разных направлений, разных убеждений. Она, ничего не понимая во всей этой развернувшейся борьбе, с какой-то ненасытной жадностью устраивала тет-а-теты с Лопатиным, Хвостовым, Фортунатовым, Андреем Белым, Борисом Фохтом, пианисткой Фохт-Сударской, близкой к эсерам. А выслушав этих собеседников, она устраивала собеседования с далёкими от первых по своим взглядам Рачинским, Эрном, Свентицким, а после этих у неё появлялись Милюков, присяжный поверенный Сталь, близкий к меньшевикам. Так что к концу всех её собеседований в голове богатой меценатки все философские и политические течения перепутывались в какую-то «кашицу».
Возможно, именно эти качества «всеядности» и терпимости к различным мнениям позволили Маргарите Кирилловне приглашать к себе столь разных людей. В салоне М.К. Морозовой все улыбались друг другу, делая вид, что между ними нет никаких споров и разногласий. И вот это привлекало остротой ощущений, новизной человеческих отношений. Лопатин – яростный тигр в других местах, у Морозовой становился тигром в наморднике. Маргарита Кирилловна с ласковой улыбкой встречала его, а вслед за ним с такой же ласковой улыбкой встречала и его противников, и тут уж не могло быть никаких распрей и споров. Хозяйка салона создала такой стиль поведения, что, кроме приятных улыбок, никто ничего себе не позволял.
По отзывам современников, М.К. Морозова, не разбираясь во всех противоречиях современных ей течений общественной мысли, искусства, науки, литературы, вместе с тем обладала удивительным свойством мирить непримиримых людей. И её салон сыграл видную роль в развитии культуры той поры.
Через переднюю в египетском стиле гости попадали в большой, неуютный, холодный зал, где гулко раздавались шаги, как в пустом музее. Зато приёмная – очень уютна, устлана мягким, серым ковром. В приёмной гостей не заставляли ждать. Из спальни вышла улыбающаяся женщина высокого роста, доброжелательно поприветствовала их, присела на низкий диван, приглашая садиться и гостей. Тут же принесли чайный столик, и потекла обычная светская беседа обо всём и ни о чём. Вроде бы ничего и не узнал нового для себя, а выходили из квартиры Морозовой как окрылённые: столько доброты было в ней, такта, сопереживания с собеседником всех его сложностей и проблем.
И всё-таки, бывая повсюду, молодые символисты не переставали мечтать об организации своего сообщества молодых художников слова. Вскоре их мечта осуществилась. Но этому событию предшествовала, казалось бы, обычная встреча на одной из «сред» Вячеслава Иванова с молодым поэтом Сергеем Городецким.
Прочитанные им стихи были встречены такими аплодисментами, какие редко здесь раздавались. Высокий, нескладный, с длинным носом, он производил странное впечатление. Да и читал-то он как-то торопливо, проглатывая окончания слов, но сами стихи поразили всех глубоким проникновением в тайны древнего славянского бытия.
Удрас и Барыба,
Две темные глыбы,
Уселись рядком…
Вот черта – это глаз,
Вот дыра – это нос,
Покраснела трава,
Заалелся откос,
И у ног
В красных пятнах лежал
Новый бог…
Читал молодой поэт, и все собравшиеся сразу поняли, что перед ними подлинный, настоящий художник, с искрой Божией.
После аплодисментов быстро вскочил Вячеслав Иванов и сказал, что все мы только что испытали тот «новый трепет», который, как говорил Бодлер, сопровождает рождение нового поэта, нового бога.
Вячеслав Иванов, говоривший всегда очень изысканно, на этот раз превзошел самого себя.
Долго ещё возбуждённо говорили и спорили о стихах молодого «Ярилы», как в шутку стали называть Сергея Городецкого, а он сам почти ничего не услышал из того, что говорилось о нём.
Александр Рославлев сразу завладел юным поэтом, проговорив с ним до утра.
Морозова не только принимала гостей, с 1909 года она создала религиозно-философское издательство «Путь», существовавшее до 1917 года, в котором вышли книги Чаадаева и Ивана Киреевского, монографии о Хомякове и Сковороде; сборники о богословии, «Философия свободы» Бердяева, «Два града», «Философия хозяйства» и «Свет невечерний» С. Булгакова, «Столп и утверждение истины» Павла Флоренского, «Миросозерцание Вл. Соловьёва» князя Евг. Трубецкого, книги Эрна, опубликовали переводы блаженного Августина, Паскаля, Джордано Бруно…
Именно Сергею Городецкому пришла в голову мысль создать «Кружок молодых», который должен чем-то отличаться от собраний Вячеслава Иванова. В «Кружок молодых» входили Александр Блок, Сергей Городецкий, Владимир Пяст, Александр Кондратьев, получивший единственную премию за стихи на конкурсе, устроенном журналом «Золотое руно» в 1906 году, П. Потёмкин, Б.С. Мосолов, Н.В. Недоброво, Е.П. Иванов, раза два бывал Андрей Белый.