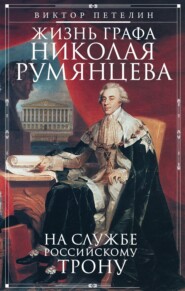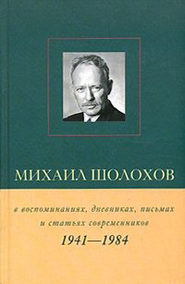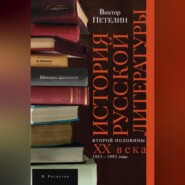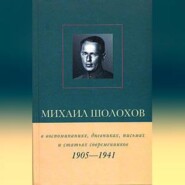По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История русской литературы второй половины XX века. Том II. 1953–1993. В авторской редакции
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Казаков Ю. Избранное. М., 1985.
Часть третья
Русская литература 60-х годов. Правда и истина
После ХХ съезда КПСС, после публикации доклада Н.С. Хрущёва о культе личности и его разоблачении, после того, как всем показалось, что наступила свобода слова, столь долго ограниченная, в интеллигентской среде стало твориться что-то невообразимое: в Ленинской библиотеке, особенно в курительной, читатели часами стояли и спорили обо всём, о Ленине и Троцком, о Сталине и гибельных 30-х годах, о лагерях, о ГУЛАГе, о невинно убиенных соратниках Ленина, о жестоком и немилосердном Сталине… Вокруг балюстрады старого здания Московского университета, там, где была Коммунистическая (Богословская) аудитория, тоже ходили толпы горячо спорящих студентов и аспирантов всё по тем же темам и вопросам. И, по воспоминаниям о тех же временах, эти споры происходили повсюду. По всему чувствовалось, что и в современной литературе произойдут какие-то серьёзные тематические сдвиги, дающие давно желанную свободу от указаний идеологических наставников.
На первых порах ослабла цензура и контроль руководящих идеологией органов, появились некоторые необычные статьи и очерки. И многие из спорящих вспоминали статьи «Об искренности в литературе» Владимира Померанцева (Новый мир. 1953. № 12) и «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе» Фёдора Абрамова (Там же. 1954. № 4), осуждённые Союзом писателей СССР и, естественно, ЦК КПСС, думали о возможности возвращения к свободе слова, как в то время.
В разных журналах появились первые стихотворения о страданиях и муках во время Великой Отечественной войны, в том числе стихи Ольги Берггольц в «Новом мире». Возникли и размышления известных литературоведов о правомерности существования некоторых устаревших толкований.
31 декабря 1956 года в «Правде» был напечатан рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека», 1 января 1957 года – его завершение. Рассказ у нас и за границей привлёк всеобщее внимание, его не только хвалили, но и бранили за неполноту изображения человеческой судьбы.
Хотя военное время давно миновало и уже, казалось бы, ничто не напоминает о тех испытаниях, которые вытерпел народ, это далеко не так. Прошедшая война оставила неизгладимый след в народном сознании. Война была очень трудной, кровавой, истребительной для фронта и тыла. Победа досталась нелегко. И гордость от победы над злейшим врагом человечества не должна заслонять огромные усилия, неисчислимые муки и страдания народа, на своих плечах вынесшего и вытерпевшего всю тяжесть военных лет. События войны оставили нестираемый след. В дни тяжелых бедствий народных судьбы отдельных людей складывались трагически. Эта мысль с предельной отчётливостью и полнотой выражена в рассказе М.А. Шолохова «Судьба человека».
Однажды, в 1946 году, М. Шолохов, возвращаясь с рыбалки, дожидался парома. К нему подошёл прохожий с мальчиком и спросил дорогу; сели покурить, разговорились. И прохожий рассказал Шолохову страшную историю своей жизни, в том числе и фронтовой. Десять лет эта встреча не давала покоя Шолохову, а потом, прочитав рассказ Хемингуэя «Старик и море», он сел и за несколько дней написал «Судьбу человека».
В образе Андрея Соколова М.А. Шолохову удалось воплотить лучшие черты русского национального характера. Вспоминая о том, что в первые годы Великой Отечественной войны немецкие фашисты называли солдата «русским Иваном», вкладывая в эти слова оскорбительный смысл, Шолохов в одной из своих статей в публицистической форме раскрыл те психологические, эмоциональные особенности, тот неповторимый склад характера, которым обладает символический русский Иван:
«Что ж, хорошее имя Иван! Иванов миллионы в нашей многонациональной Советской стране. Это те Иваны, которые сейчас беззаветно трудятся на благо и процветание своей Родины, а в прошлую войну, как и на протяжении всей истории своей страны, с непревзойдённым героизмом сражались с захватчиками.
Это они прижимались к дулам немецких пулемётов, спасая товарищей по оружию от губительного вражеского огня, это они шли на таран в воздухе, прикрывая от бандитских налётов родные города и сёла, это они тонули в солёной воде всех морей и океанов, омывающих нашу Родину, и в конце концов спасли человечество от фашистской чумы, распростёршей над миром чёрные крылья. Не щадя ни крови, ни самой жизни, они делали своё святое и благородное дело…
Символический русский Иван – это вот что: человек, одетый в серую шинель, который не задумываясь отдавал последний кусок хлеба и фронтовые тридцать граммов сахару осиротевшему в грозные дни войны ребёнку, человек, который своим телом самоотверженно прикрывал товарища, спасая его от неминучей гибели, человек, который, стиснув зубы, переносил и перенесёт все лишения и невзгоды, идя на подвиг во имя Родины» (Шолохов М.А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 8. М., 2005.
С. 234). А восемь лет спустя в своей речи перед избирателями в Таганроге Шолохов снова возвращается к прежним размышлениям, развивая их, давая обобщённую характеристику «русскому Ивану», богатство души которого не всякому удаётся понять. Загадочным и странным кажется итальянскому офицеру поведение русского солдата, взявшего его в плен: «Этот парень подбежал ко мне, ударил прикладом автомата, снял краги, встряхнул меня, посадил на завалинку. У меня дрожали руки. Он свернул свой крепкий табак – махорку, послюнявил, сунул мне в зубы, потом закурил сам, побежал сражаться опять». «Слушайте, – восклицает Шолохов, рассказывающий этот эпизод, – это здорово: ударить, снять краги, дать покурить пленному и опять в бой. Чёрт его знает, сумеем ли мы раскрыть его душу?» (Там же. С. 338).
И в каждом своём произведении М. Шолохов стремится раскрыть во всей полноте и многогранности душу русского человека. Как всякий крупный художник, глубоко проникая в человеческий характер своего времени, открывая существенные его стороны, Шолохов создаёт национальные типы во всём разнообразии их индивидуальной психологической характеристики. Шолоховский взгляд всегда устремлён к самому лучшему, что есть в душе русского человека, – его национальной чести, гордости, бесстрашию, удали, милосердию, самоотверженности, доброте и сердечности.
В трагическом образе Андрея Соколова Шолохов увидел человека-борца, обладающего титаническими силами, много испытавшего и пережившего, надломленного мучительными страданиями, оставившими нестираемый след в его душе. Но и после этих нечеловеческих испытаний из него «ни оха, ни вздоха не выжмешь, хотя иной раз так схватит и прижмёт, что белый свет в глазах меркнет». Особенно тяжело было вспоминать Андрею Соколову последнее прощание с женой, когда он с силой разнял её руки и легонько толкнул её в плечи. Эта грубость страшно тяготит Андрея Соколова: «До самой смерти, до последнего моего часа, помирать буду, а не прощу себе, что тогда оттолкнул!» (Там же. С. 40).
М. Шолохов обладает замечательной способностью схватывать и подмечать сложные внутренние переживания человека, передавая их через внешнее – подчас малозаметный жест, слово. Этот приём он использует всякий раз, когда тому или иному герою хочется утаить свои подлинные чувства и мысли. Вот Андрей Соколов попытался скрыть вдруг охватившее его волнение. До какой-то степени это ему удалось: «Он сидел, понуро склонив голову, только большие, безвольно опущенные руки мелко дрожали, дрожал подбородок, дрожали твёрдые губы… Пытался свернуть папиросу, но газетная бумага рвалась, табак сыпался на колени» (Там же).
В умело подобранных деталях сказалось огромное психологическое чутьё писателя, его умение проникать в «тайное тайных» человека. Движения, жесты, интонации, более непосредственные, чем слова, точно и правдиво передают внутреннее волнение героя. Особенное значение для психологической характеристики Соколова имеет выражение его глаз. Шолохов «не единой слезинки не увидел в его словно бы мёртвых, потухших глазах». В них, «словно присыпанных пеплом», наполненных неизбывной смертной тоской, отразилось столько накопившейся боли, затаённой скорби, невыплаканных слёз, что взгляду трудно было встретиться с ними.
Как-то Лев Толстой писал Фету о Тургеневе: «Одно, в чём он мастер такой, что руки отнимаются после него касаться этого предмета, – природа» (Л. Толстой о литературе. М.: Гослитиздат, 1955. С. 159). А об изобразительной силе Шолохова-художника можно сказать, перефразируя это выражение: «Две-три черты, и человек живёт». Благодаря этому свойству художественного дара Шолохова все изображённые им персонажи приобретают такую яркость, жизненность, рельефность, что вымышленные им лица как бы теряют свою нереальность, выдуманность и приобретают свойства живой человеческой личности. Вот почему мы как бы становимся соучастниками всех событий, о которых рассказывает Андрей Соколов, вместе с ним переживаем все страдания, горести, выпавшие на долю этого простого русского человека. Трагическое стечение обстоятельств, в итоге которых у него погибают жена, дети и всё, что «лепилось годами», значительно подрывает его силы. У него «сердце раскачалось». «И вот удивительное дело, днём я всегда крепко себя держу… а ночью проснусь, и вся подушка мокрая от слёз…» – эти признания человека «несгибаемой воли» делают его ещё более близким и дорогим, «заставляют» читателя забыть о том, что перед ним литературный, то есть «вымышленный», герой.
И Андрей Соколов, когда его вызвали к коменданту, тоже предполагал, что идёт «на распыл». «Что-то жалко ему стало Ирину и детишек, а потом жаль эта утихла и стал я собираться с духом, чтобы глянуть в дырку пистолета бесстрашно, как и подобает солдату, чтобы враги не увидали в последнюю мою минуту, что мне с жизнью расставаться всё-таки трудно» (Там же. С. 52).
Всё время чувствуется моральное превосходство русского солдата, его непревзойдённая сила духа, неистребимые чувства человеческого достоинства, национальной чести, ответственности за свои поступки, никогда не покидающее его чувство юмора. Во всём, в самой, казалось бы, незначительной детали, раскрывается его недюжинный характер, несгибаемая воля, бесстрашие, мужество. И в том, что он, голодный как волк, давно отвыкший от человеческой пищи, при виде здоровенной бутыли со шнапсом, хлеба, сала, мочёных яблок, открытых банок с разными консервами сумел задавить тошноту и оторвать глаза от стола; и в том, что не стал отнекиваться, когда комендант повторил его слова, брошенные вгорячах накануне, за которые положено расстреливать, как за призыв к саботажу, а мужественно, с достоинством подтвердил сказанное; и в том, как он выпил три стакана водки, стремясь хоть таким способом продемонстрировать силу и мощь русского солдата; и в том, что только после третьего стакана водки он «откусил маленький кусочек хлеба, а остаток положил на стол»; и в том, что, получив за смелость небольшую буханку хлеба и кусок сала, он, повернувшись к выходу и представляя собой хорошую мишень, прежде всего пожалел, если комендант выстрелит в него в этот момент, что не донесёт «ребятам этих харчей»; и в том, что эти харчи по его требованию были поделены «всем поровну», – во всем этом раскрылись лучшие черты русского национального характера.
Для большинства читателей этот рассказ был как праздник, тысячи бывших пленных перестали называть изменниками, отношение общества к ним переменилось; но были и те, кто, испытав все ужасы немецкого плена, после освобождения и расследования обстоятельств их пленения оказывались в советских лагерях. М.М. Шолохов, сын писателя, узнал об этом рассказе мнение своего школьного товарища, бывшего офицера, прошедшего ужасы немецкого и советского лагерей; тот спрашивал: почему М.А. Шолохов не показал Соколова в советском лагере? Сын передал этот разговор отцу. М.А. Шолохов долго разговаривал с сыном, объясняя ему, что нет одной правды, есть и «вредоносная правда». «Это страшная правда», «А вот настоящая правда всегда – возвышающа», «Писатель писателю – рознь. Иной с таким наслаждением смакует всякую пакость. И ведь не замечает даже, что сам-то уже – грязнее грязи… И не задумается даже, что от его убогого понимания правды до настоящей художественной правды дистанция – как до звезды небесной… А когда пером начинает водить злость и обида, это уже не писатель, а вредоносный для общества тип. Таких изолировать надо» (Шолохов М.М. Разговор с отцом… // Дон. 1990. № 5. С. 158—161).
Открытое письмо М.А. Шолохову в связи с «Судьбой человека» написал, а затем и опубликовал писатель Олег Волков, много лет отсидевший в лагере, а потом в ссылке, тоже упрекнувший автора в том, что тот не показал героя своего рассказа в советском лагере. Но все эти «мелочи» ничуть не заслонили огромного нравственного заряда, что получило от произведения общество, этот рассказ как бы открыл такие темы, которые писатели обходили, опасаясь идеологического давления со стороны контролирующих органов и потери авторитета с их стороны.
А за два года до этого, напоминаю, бурные события развивались вокруг рукописи романа «За правое дело» Василия Гроссмана, который был представлен автором в редакцию журнала «Новый мир» в 1949 году. Рукопись три года редактировали, и только накануне II съезда советских писателей, в 1954 году, роман вышел в свет. Роман острый, о Сталинградской битве на Волге, вызвал серьёзные разногласия в среде читавших его писателей, в том числе генерального секретаря СП СССР А.А. Фадеева.
В архиве В. Гроссмана сохранился «Дневник прохождения рукописи», начатый 2 августа 1949 года и законченный 26 октября 1954 года сообщением, что роман продаётся в книжных магазинах.
С 1946 года «Новый мир» возглавил Константин Симонов. В одном из номеров был напечатан рассказ Андрея Платонова «Возвращение», но вскоре после в «Литературной газете» появилась жёсткая и хлёсткая статья главного редактора Владимира Ермилова «Клеветнический рассказ А. Платонова». Через год «Новый мир» напечатал десять рассказов Михаила Зощенко, конечно, Симонов обращался за разрешением к Жданову, наконец, Сталин не возражал, если рассказы хорошие. Так что к роману Василия Гроссмана отнеслись положительно, прочитала редколлегия, прочитал К. Симонов, сделал несколько серьёзных критических замечаний, обсудили на редколлегии, где тоже были высказаны замечания, с которыми автор согласился. В итоге обсуждения К. Симонов написал резолюцию: «Роман готовится к январскому номеру, форсировать редактирование». В январский номер роман не пошёл, а в феврале 1950 года К. Симонов и А. Кривицкий уходят из «Нового мира» в «Литературную газету», главным редактором становится А. Твардовский, а новым членом редколлегии – М. Бубеннов.
Новому руководству нужно было время, чтобы решить этот вопрос. Твардовский обещал прочитать роман быстро, пока его читает Бубеннов. В марте 1950 года Бубеннов высказался о рукописи романа резко отрицательно. Твардовский принял только военные главы, а «против остального резко и грубо возражал». Гроссман категорически отказался от требований Твардовского и готов был снять вопрос о публикации. Через десять дней после этого к Гроссману пришли Твардовский и Тарасенков, «договорились». За две недели роман отредактировали, на редколлегии журнала роман принят единогласно, 19 апреля 1950 года рукопись была сдана в набор. 28 апреля – вёрстка, а 29 апреля – обсуждение на Секретариате, где было решено отложить публикацию на два месяца, отредактировать рукопись полностью и сдать её на консультацию в ЦК ВКП(б). За это время автор написал две дополнительные главы о Верховном главнокомандующем. И снова молчание в ЦК. 6 декабря Василий Гроссман написал письмо Сталину, но в январе 1951 года Фадеев, побывавший в ЦК, пригласил Гроссмана, Твардовского, Тарасенкова и Смирнова в Переделкино и сообщил, что надо «снять главу о ПБ, дать главы о рабочем классе и крестьянстве, дать главу о немцах, верных демократии, прочертить яснее об англо-американцах, снять Штрума. «Я в ответном слове согласился со всем, – говорилось в дневнике, – кроме Штрума. Спорили…» Гроссман все указания принял, доработал, но заведующий Агитпропом ЦК В.С. Кружков потребовал дать ему рукопись романа.
Не станем пересказывать записи «Дневника» В.С. Гроссмана, постоянные мелкие и крупные замечания от различных руководящих работников. Фадеев был у Суслова, 30 октября послал письмо Маленкову. 11 января 1952 года Фадеев сделал ещё ряд замечаний Твардовскому о сокращении рукописи романа. 22 мая 1952 года Фадеев позвонил Гроссману: «Из вашего доброго духа я превратился в вашего злого духа». Сколько же раз Фадееву приходилось читать рукопись романа, сколько раз он высказывал свои предложения по переработке романа, сколько же раз автору приходилось внимательно выслушивать предложения и чаще всего переделывать роман! Вскоре роман в журнале «Новый мир» был опубликован, начало в седьмом номере журнала, окончание в десятом. 4 ноября 1952 года появилась первая положительная рецензия в «Московской правде», затем – в журналах «Коммунист», «Огонёк», «Молодой коммунист», в газете «Вечерний Ленинград». «Роман обсуждался на Президиуме ССП, – писал Гроссман в «Дневнике», – и был выдвинут на Сталинскую премию».
Решительно всё изменилось после того, как 13 февраля 1953 года «Правда» напечатала отрицательную статью М. Бубеннова «О романе В. Гроссмана «За правое дело». 15 февраля «Коммунист» опубликовал статью «Роман, искажающий образы советских людей», «Литературная газета» дала редакционную статью «На ложном пути», 26 февраля в «Красной звезде» – «В кривом зеркале». И выяснилось – тяжёлая судьба у писателя…
М. Бубеннов, как новый член редколлегии журнала «Новый мир», прочитал рукопись романа и решительно возражал против её публикации в журнале. Проходила длительная авторская доработка романа, автор что-то добавлял, что-то снимал, но творческий замысел оставался неизменным. Твардовский на первых порах решительно отказался печатать роман, только военные главы, «против остального резко и грубо возражал», но потом изменил свою точку зрения и стал внимательно прислушиваться к тому, что говорил Фадеев, консультировавшийся с лидерами ЦК ВКП(б). И как только роман вышел в журнале, он тут же напечатал свою статью в «Правде». Некоторые читатели и критики называют её разгромной, «доносительской», но ведь писатель здесь высказал то, что он всегда говорил в своих рецензиях и выступлениях. А по какому указанию статья была напечатана в «Правде» – по указанию Сталина, Маленкова, Суслова, – достоверных источников нет. И почему те, кто в печати хвалил роман, вдруг отказались от своих слов, звучит уж просто удручающе. Уж не говоря о том, что редколлегия «Нового мира» напечатала в «Литературной газете» своё «покаянное письмо», от своих хвалебных слов о романе на заседании Президиума ССП отказались Фадеев, Г. Николаева, Катаев, Твардовский, Злобин, Толчёнова, резко критиковали роман Первенцев, Ермилов… 28 марта 1953 года А.А. Фадеев «опубликовал в газете доклад с уничтожающей критикой романа, полный беспощадно тяжёлых политических обвинений». Так В.С. Гроссман подвёл итоги своей изнурительной драмы с публикацией романа «За правое дело» (Бочаров А. По страдному пути // Гроссман В. Жизнь и судьба. М., 1990).
Такова была цензура того времени, от редактора до Сталина, слова которого почему-то боялись. А ведь были и умные, толковые слова. К. Симонов вспоминает один эпизод из литературной жизни в книге «Глазами человека моего поколения». К. Симонов присутствовал на обсуждении кандидатур на Сталинскую премию, на заседаниях иногда присутствовал Сталин, высказывался о произведениях, претендующих на Сталинскую премию.
Симонов записал то, что Сталин говорил о романе Эммануила Казакевича «Весна на Одере»: «В романе есть недостатки. Не всё там верно изображено: показан Рокоссовский, показан Конев, но главным фронтом там, на Одере, командовал Жуков. У Жукова есть недостатки, некоторые свойства его не любили на фронте, но надо сказать, что он воевал лучше Конева и не хуже Рокоссовского. Вот эта сторона в романе товарища Казакевича неверная. Есть в романе член Военного совета Сизокрылов, который делает там то, что должен делать командующий, заменяет его по всем вопросам. И получается пропуск, нет Жукова, как будто его и не было. Это неправильно. А роман «Весна на Одере» талантливый Казакевич писать может и пишет хорошо. Как же тут решать вопрос? Давать или не давать ему премию? Если решить этот вопрос положительно, то надо сказать товарищу Казакевичу, чтобы он потом это учёл и исправил, неправильно так делать. Во всяком случае так пропускать, как он пропустил, – значит делать неправильно».
…Я встретился с Казакевичем и рассказал ему от слова до слова всё как было. Он был в бешенстве и в досаде – и на других, и на самого себя и, взад и вперёд расхаживая по фадеевскому кабинету, скрипел зубами, охал и матерился, вспоминая редакционную работу над своей «Весной на Одере», как на него жали, как не только заставляли убрать фамилию Жукова, но и саму должность командующего фронтом. «Конечно, – с досадой говорил он, – Сталин правильно почувствовал, совершенно правильно. Половину того, что делает Сизокрылов, делал у меня командующий фронтом, а потом меня просто вынудили всё это передать Сизокрылову. Как я согласился, как поддался? А как было не поддаться – никто бы не напечатал, даже и думать не желали о том, чтобы напечатать до тех пор, пока я этого не переделаю. А как теперь переделывать обратно? Как вставлять командующего фронтом, когда роман уже вышел в журнале, уже вышел двумя изданиями, уже переведён на другие языки, как я могу теперь его исправлять, заменять одного другим?» (Симонов К. Глазами человека моего поколения. М., 1988. С. 198—199).
В 1947 году Сталин задал вопрос Симонову, хорошие ли рассказы М. Зощенко, которые тот готов напечатать в «Новом мире». Получив утвердительный ответ, сказал: «Ну, раз вы, как редактор, считаете, что их надо напечатать, печатайте. А мы, когда напечатаете, почитаем» (Там же. С. 140).
Вот честная позиция руководителя государства: почитаем и выскажем своё отношение к опубликованному материалу.
А Фадеев и Твардовский заняли странную позицию, скорее двурушническую, нежели принципиальную. Отсюда и редактура «Весны на Одере»: только что Жуков был понижен в должности, так решено было выбросить его из романа, где он действительно командовал фронтом.
Такова была общественно-литературная обстановка, писатель был почти начисто лишён свободы слова, при этом чаще всего из-за собственной трусости, не только сам себя редактировал, но и поддавался нажиму редактора, заведующего редакцией, главного редактора, цензора, высших идеологических учреждений. Но ХХ съезд КПСС, принявший Постановление о культе личности И.В. Сталина, вроде бы коренным образом изменил обстановку. Однако цензура продолжала свой гнёт, свои идеологические установления.
С приходом к власти Н.С. Хрущёва мало что изменилось, положение творческих союзов скорее ухудшилось. То, что заявили напостовцы и налитпостовцы в 20-х годах, окрепло, идеологически оформилось в различных партийных установлениях. В.Н. Шевелёв в талантливо написанной книге «Н.С. Хрущёв», цитируя отрицательные и положительные отклики после его отставки в 1964 году и приводя многочисленные факты биографии, пришёл к выводу, что «добро и зло были уравновешены в нем»: «Это был человек больших страстей и великих заблуждений» (Шевелёв В.Н. Н.С. Хрущёв. Ростов н/Д, 1999. С. 2). Считая себя специалистом по сельскому хозяйству, он при Сталине написал статью «О строительстве и благоустройстве в колхозах», в которой прямо говорил, что необходимо сселить мелкие колхозы в крупные и благоустраивать их (Правда. 1951. 4 марта). Были и серьёзные просчеты в формах переустройства укрупнённых колхозов. Сталин был недоволен статьей Хрущёва, и 2 апреля 1951 года ЦК ВКП(б) распространил письмо «О задачах колхозного строительства в связи с укрупнением мелких колхозов». В письме говорилось и об ошибочной статье Н.С. Хрущёва, который тут же признал свои ошибки. «Дорогой товарищ Сталин, – писал Н.С. Хрущёв. – Вы совершенно правильно указали на допущенные мною ошибки…» Сталин простил его, но тут же сказал: «Хрущёв болен манией вечных реорганизаций, и за ним следует внимательно следить» (Там же. С. 78—79). Маленков, пользуясь близостью к Сталину, помог Хрущёву поменять Киев на Москву, принять непосредственное участие в политических интригах после смерти Сталина в борьбе за власть. Маленков был председателем Совета Министров и секретарём ЦК КПСС, обладал той же властью, что и Сталин, но эту власть через год, используя партийную номенклатуру, отобрал у него Н.С. Хрущёв.
На ХХ съезде КПСС коммунисты и весь народ узнали много фактов из истории страны, о репрессиях и о культе личности И.В. Сталина.
На ХХ съезде КПСС Михаил Шолохов, продолжая критическую оценку современной литературы, которую он высказал ещё два года назад на писательском съезде, коснулся и личности Фадеева как генерального секретаря Союза писателей СССР, погубившего себя и как писателя, и как человека: «Фадеев оказался достаточно властолюбивым генсеком и не захотел считаться в работе с принципом коллегиальности. Остальным секретарям работать с ним было невозможно.
Пятнадцать лет тянулась эта волынка…» Шолохов сожалел, что немалые творческие силы у Фадеева уходили на решение бытовых писательских проблем, которых было множество, так потеряли талантливого писателя, автора «Разгрома» и «Молодой гвардии». «Творческих работников литературы нужно избавить от излишней заседательской суеты, от всего того, что мешает им создавать книги. Мы и так понесли немалый урон от того, что такие крупные художники слова, как Леонов, Тихонов, Федин, потратили уйму драгоценного времени на всяческие заседания, вместо того чтобы на воле изучать жизнь и писать книги. Пора с этим кончать! Читатели ждут от нас книг, а не речей на заседаниях» (ХХ съезд КПСС: Стенографический отчёт. М., 1956. С. 585—586).
Шолохов говорил не столько о Фадееве, сколько о той бюрократической системе деятельности Союза писателей, которая изматывала руководящих писателей, не давала им возможности писать. К сожалению, литературные обыватели этого не заметили.
Не только речь старого друга, но и извращённые слухи об этой речи больно задели члена ЦК КПСС А. Фадеева, даже не избранного на съезд. А размашистый и неблаговидный доклад Н.С. Хрущёва о деятельности Сталина, о котором он знал много хорошего и вредного, к тому же постоянные недомогания, жизнь в лечебницах и санаториях, постоянные болезненные срывы, а главное – трагические раздумья о своей деятельности в 30-х годах окончательно сломили его силы. 13 мая 1956 года Александр Фадеев покончил жизнь самоубийством, застрелился, оставив предсмертное письмо:
«В ЦК КПСС:
«Не вижу возможности дальше жить, т. к. искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии…» (Текст полностью приведён выше. – В. П.)
13/5.56. Ал. Фадеев» (Известия ЦК КПСС. 1990. № 10. С. 147—151. И пять страниц автографа письма А.А. Фадеева для сверки).
В писательском посёлке Переделкино, где покончил с собой А. Фадеев, в ЦДЛ, в Москве и во всех городах России ходило много слухов о содержании письма, чаще всего эти слухи совпадали с его сутью. Современники знали о трагическом состоянии души писателя, но ничего не сделали, чтобы предотвратить трагический конец.
27 июля 1956 года в «Записке Отдела культуры ЦК КПСС «О некоторых вопросах развития современной советской литературы», поступившей поочередно Д.Т. Шепилову, Л.И. Брежневу, М.А. Суслову, А.А. Аристову, П.Н. Поспелову, Н.И. Беляеву, Е.А. Фурцевой, руководители Отдела Б. Рюриков, В. Иванов и И. Черноуцан, отметив некоторые успехи советской литературы, появление таких произведений, как повести В. Тендрякова, С. Антонова, автобиографических книг «Повесть о жизни» К. Паустовского, «Хуторок в степи» В. Катаева, «Берёзовый сок» С. Щипачёва, автобиографической трилогии Ф. Гладкова, резко заговорили о том, что ХХ съезд партии даёт им возможность остро критиковать прежние партийные решения, особенно постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград», вернуть доброе имя М. Зощенко, А. Ахматовой и «Серапионовым братьям». «Все это используется для критики постановлений ЦК КПСС по вопросам идеологии, – говорится в «Записке», – которые объявляются иногда порождением и выражением культа личности. В некоторых выступлениях дело доходит до огульного шельмования всех постановлений и попыток изобразить их препятствием на пути развития советского искусства.
Так, например, выступая на совещании писателей в Москве, О. Берггольц заявила:
«Считаю, что одной из основных причин, которые давят нас и мешают нашему движению вперёд, являются те догматические постановления, которые были приняты в 1946—1948 гг. по вопросам искусства… Неудобный камень, положенный вышеуказанным постановлением и докладом Жданова на русское искусство ХХ века, на его историю, на историю советской литературы, необходимо сдвинуть в ближайшее время и во что бы то ни стало» (17 января 1957 года О. Берггольц вынуждена была написать заявление в ЦК КПСС о том, что со всеми решениями ХХ съезда КПСС она согласна, а выступала лишь потому, что хотела «опротестовать» «наслоения культа личности, те элементы личной вкусовщины, произвольных оценок», «упрощённых взглядов на искусство» и т. п. со стороны Сталина и Жданова…) В последнее время, как реакция на лакировку действительности, сложилось у некоторых писателей и деятелей искусств стремление изображать прежде всего «горькую правду», привлекать внимание к трудности и неустроенности быта, к тяжёлым лишениям и к обидам невинно пострадавших. Подобные тенденции проявились, например, в выпущенном недавно сборнике «Литературная Москва», где ряд авторов рисует прежде всего теневые стороны нашей жизни, прибегая для этого подчас к нарочитым ситуациям (рассказы С. Антонова, стихи Рождественского и Алигер). Показательна в этом отношении и опубликованная в последнем номере «Нового мира» повесть С. Залыгина «Соседи» (Новый мир. 1956. № 7. – В. П.). Некоторые писатели берут под сомнение саму задачу создания положительного героя и мысль о том, что наша литература должна воспитывать народ в духе бодрости и революционного оптимизма. Редактор журнала «Знамя» сообщил, что буквально завален рукописями, в которых наша действительность рисуется черными красками. Отклонение таких произведений вызывает упреки в «консерватизме» и «зажиме критики», в приверженности «старой линии» и т. д.