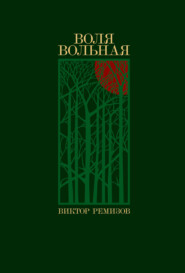По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вечная мерзлота
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Белов согласно кивнул головой, всю дорогу он думал о своем.
Колючие снежинки налетали из-за рубки и вдруг замирали растерянно, зависали без ветра, и тут же, подхваченные порывом, уносились вверх. И каждую, в ярком свете прожектора, было отлично видно и, когда замирала, можно было взять рукой. Но ветер наддавал, буйно и бессмысленно все перемешивал и опять не понять ничего было. Отяжелевшему от дум Сан Санычу, казалось, что и в жизни его все вот так же. Ничего не ясно… влюбился в ссыльную, сам не понимая, как… А тут еще Зинаида, как наступающая зима… уже завтра он должен был быть у нее… Что делать? – сорвалось с языка вслух. Он оглянулся – никого не было, Грач спустился в командирский кубрик, негромко пыхтела паровая машина, да кочегар, скрипуче открыв металлические заслонки топки, начал отбивать шлак.
20
Декабрь сорок девятого выдался отменно злой. Уже с конца осени встали сорокоградусные морозы, временами и за пятьдесят переваливало. В двух ермаковских школах – одна из них была толком не достроена – на радость ребятишкам то и дело отменяли занятия, и они целыми днями сидели дома и бегали друг к другу в гости. Печки топились сутками, а даже в брусовых домах холодные углы промерзали и покрывались льдом.
Сугробы прикрыли поселковую грязь, но только навели видимость порядка. Большие палатки, прикопанные и обложенные мхом, домишки, балки?, землянки и полуземлянки, еще какие-то неведомые архитектуре строения стояли, где угодно, и как угодно. Кто как хотел, так и лепил свою нору, торопясь спрятаться от зимы. Только на подъеме от Енисея, да в центре, где были заложены две длинные улицы, поселок был похож на поселок.
Улицам дали названия, а домам номера. Это была сложная условность, путавшая людей, поскольку номера были не везде, то есть у каких-то домов, не говоря о балках, их не было, а улицы были кривы, а часто и не похожи на улицы. Там, где должна была продолжаться «Норильская», шла уже «Павлика Морозова», которая вскоре по неизвестным причинам превращалась в «Овражную». Долгое время были две улицы Щорса и совсем не было улицы Ленина.
Найти по адресу было сложно, и все же, благодаря почте, люди стали сознавать себя ермаковцами – им приходили письма на их адрес! В ответных письмах они хвастались, что еще весной здесь ничего не было, а теперь Ермаково, если считать вместе с зэками, уже больше Игарки и Туруханска вместе взятых. Хвастались и огромной стройкой всесоюзного значения. Не только вольные, но и охранники и заключенные гордились в своих письмах одним и тем же. Их адреса, правда, были короче и поселка Ермаково на конверте не значилось, да и про стройку им писать не полагалось.
В обычной поселковой жизни появились твердые ориентиры. Горчакова, отправляя на санзадание в поселок, а такое случалось нередко – медработников не хватало, чаще инструктировали «на пальцах», чем вручали адрес:
– «От Управления второй барак в сторону автобазы…» или «поселок ПГС пройдешь, не доходя пекарни, сразу за землянками…»
«Промтоварный», «Большой» и «Дальний» продуктовые магазины, или «Продуктовый возле бани» были верными ориентирами. Достраивалось большое здание Дома Культуры, и обещали построить стадион. Все, даже дети, хорошо знали, где находится «первый», а где «второй» лагпункты, а где «женская зона» – они располагались на окраинах поселка, и к ним вели широкие – по пять человек в ряду – хорошо натоптанные дороги.
Общественная баня на берегу работала так: понедельник-среда-пятница-воскресенье – мужской день, вторник-четверг-суббота – женский.
Снег на улицах чистили тракторами, по обочинам и особенно на перекрестках образовались высокие, под крыши домов сугробы, с которых дети катались на «ледянках». Грузовики ездили, трактора и кони таскали сани или волокуши, а начальство пользовалось конными саночками.
Больницу для вольных сдали к празднику Революции 7 ноября. На сто коек, с большой операционной, новым рентгеновским аппаратом и зубным кабинетом на два кресла. Прибыли терапевт и зубной врач – семейная пара из Ленинграда по распределению после института. Он – после фронта, искалеченный, с некрасиво обожженным, мясного цвета лицом, она – молоденькая, симпатичная, и так ласково поглядывающая на мужчин, что у всего начальства сразу заболели зубы.
Торфяные болота, наконец, схватились и застыли в бетон, через них прочистили зимники, грузовики и трактора потащили грузы по тайге – в лагпункты и на трассу. Работы на объектах не прекращались – за половину декабря всего три дня актировали[73 - Актировать – составить акт (подписывался лагерным и производственным начальством) о невозможности наружных работ по причине, например, сильного мороза.] из-за холодов, но и те заставили отработать в выходные. Технику, лошадей и собак берегли, люди же выходили. Работали, грелись по теплушкам и снова работали.
Из-за сильных морозов на земляных работах был ад – ни кайло, ни лом не брали грунт. Жгли большие костры, отогревали, снимали мгновенно замерзающий слой, и снова наваливали сухостой целыми стволами и сами грелись. Толку было немного – план горел. Бригадиры вечерами мудрили с нарядчиками, придумывали несуществующие работы по расчистке снега, подноске материалов вручную, по корчеванию тайги, которой там давно уже не было, и еще всякую другую «заправляли туфту» и «раскидывали темноту»… и так выполняли производственные задания. Начальство обо всем знало, но закрывало глаза – и план выполнялся на сто, сто двадцать и даже сто пятьдесят процентов. От его выполнения зависел размер па?йки заключенных, зарплаты и премии вольных, должности и новые звездочки на погонах высокооплачиваемых сотрудников министерства внутренних дел.
Шура Белозерцев раздетый и без шапки в клубах теплого воздуха выскочил из барака на улицу. Глянул на мутноватую сквозь морозную мглу луну, выплеснул ведро с грязной водой на сугроб и принюхался к температуре. У него был свой термометр, слушал, как щиплет в носу и горле, и как вообще можно дыхнуть. Сегодня нельзя было – сухой колючий ком сразу встал поперек. Градусник на столбе показывал минус сорок семь. Вернулся в барак. Шура, несмотря на поджарость, был немерзлявый, чуть только потер уши, тряхнул головой и снова стал наливать горячую воду в ведро.
В операционной, отгороженной дощатой стеной от остального барака, стонал капитан Балакин. Тихо стонал, но не замолкая. Глаз распух и вылез так, что смотреть было тяжело. Кажется, он уже совсем плохо соображал. Горчаков сидел рядом, держал какую-то примочку, сам читал учебник «Хирургии».
Белозерцев сунулся, было, с тряпкой, но передумал, прикрыл дверь и, подхватив парящее ведро, перешел в палату. Снова встал на корячки. Капитана привезли позавчера, глаз уже был опухший, но он им еще смотрел и пытался шутить, потом все стало хуже. И вот он третий день ждет операции. Говорили, сам Богданов должен прийти, а чего-то не было его, вроде к какому-то начальству в Норильск вызывали… – Шура открыл печку, поковырял раскаленный уголь кочерёжкой, добавил пару совков свежего и снова взялся за грязную половую тряпку. – Если хирурга не пришлют, помрет капитан, сколько таких околело.
Все это было привычно, и от простого аппендицита или от водянки люди загибались, а капитана с почерневшем глазом было жалко. Красивый, справедливый мужик, бригадиром был в бригаде у вояк, Шура у него работал. Ни сук, ни воров не боялись. «Героя Советского Союза» имел.
Белозерцев обдумывал все это машинально, как машинально дрючил затоптанные, захарканные, испачканные, где кровью, где гноем, а где и недонесенным дерьмом полы, но озабочен Шура был другим.
Пришла Белозерцеву с воли трепетная весточка. Медсестра Рита принесла вчера утром аккуратно оторванную четвертушку из школьной тетрадки и клочок этот второй день огнем жег Шуре ляжку. Всю ночь сегодня юлой вертелся, все придумывал, как за зону выскочить на часок.
Три дня всего и поработала у них в лазарете медсестричка Полина Строева, и было это два месяца назад, а вот прислала записку, и Шура махом с резьбы соскочил. Месяц в ШИЗО готов был вытерпеть, только бы к ней слетать. Полина прямо писала, звала повидаться, а если получится, то и на ночку. Руки у Шуры тряслись, как у семнадцатилетнего, он и полы-то теперь мыл – за час до подъема встал! – чтобы эту тряску унять. Надо было как-то извернуться, да ничего путнего в голову не лезло. Просить Горчакова о таком, подставлять его, Шура не смел, лезть под проволоку ночью было страшновато, могли и побег пришить. Его время от времени отправляли за зону по разовым пропускам, вот об этом он теперь и тосковал. И зло возил тяжелой тряпкой по загаженному, местами обледеневшему полу и бегал выплескивать воду.
Стылая ночь стояла над лагерем, и еще часа три после общего подъема будет ночь, вот теперь бы и сгонять. Шура знал барак Полины в поселке, если бегом припустить, то минут десять. И он в который раз прижимался мысленно к ее теплой груди и заглядывала в мягкие глаза.
И дело было не в «ночке», разбудило это нежданное письмецо подзабытое, но живое, не вытравленное окончательно чувство. Удивительное чувство, неизвестно где и дремлющее в человеке, и непонятно как являющееся вдруг между мужчиной и женщиной. Никогда Белозерцев, даже про себя не произнес бы слово «любовь», совсем не подходящее к заключенному и его жизни. Но это была любовь, Шура очень чувствовал ее в себе, трепетная, в небесные выси поднимающая задроченного зэка от его скотской жизни. Все бы отдал Шура за это теплое прикосновение воли.
Лазарет, устроенный в большой палатке, был битком. Нары, типа «вагонка» стояли не только вдоль стен, но и в середине, сейчас здесь больше шестидесяти больных помещались и шесть человек персонала. Свободными оставались только узкие проходы, да немного места вокруг трех металлических печек, обложенных кирпичом. Возле печек было жарко до пота, по углам подмерзало, а во всем лазарете такой духан стоял, что ноздри разъедало. И гнили, и пердели, и под себя ссали… и сортир на шесть очков здесь же за брезентовой перегородкой был выкопан.
Всю левую сторону занимали прооперированные. Аппендициты, геморрои, выпадение и ущемление прямой кишки. От тяжелой работы этого добра везли каждый день. Здесь же лежали и просто с огнестрельными и ножевыми ранами. Через проход за перегородкой из простыней стонали заразные, рожистые больные. Стонали, и подвывали от изнуряющей, почти не прекращающейся боли и матерились злобно на весь белый свет.
Зубы приходил лечить зубной техник из третьего лагпункта. Лечить он не умел и не считал нужным, а рвал с удовольствием и потом показывал кровавый зуб несчастному пациенту и, вложив в руку, велел унести с собой. Так он отбивал желание обращаться с зубами – на зоне было немало специалистов, которые обычными плоскогубцами рвали не хуже.
Кроме начальника санчасти необразованного фельдшера Горчакова, в лазарете работали дневной и ночной санитары, малолетний дневальный Сашка и две вольные медсестры – высокая и спокойная Рита и молоденькая, пугливая Маруся.
Белозерцев, домывая пол, увидел, что дальние деревянные бадьи для мочи стоят полные, крикнул зло и громко дневального:
– Сашка, суч-чий кот, Пушкин парашу выносить должен?!
Сашка не отозвался.
– Сашка, сучонок!
– На ларе с углем спит… – подсказал чей-то измученный болью голос.
Сашка был четырнадцатилетний худощавый мальчишка, получивший год лагеря за побег из ФЗУ[74 - ФЗУ – Школа фабрично-заводского ученичества. С 1940 по 1953 год в школу принималась и мобилизовывалась молодежь 14-18 лет для обучения рабочим специальностям. За побег давался срок.]. Бежал в родную деревню, к мамке, которая отдала его в училище, потому что дома жрать было нечего. Мальчишка был ласковый, беззлобный и беззащитный. На Игарской пересылке им попользовались урки. В лазарет привезли с распухшей задницей и разрывами прямой кишки. Богданов сам делал операцию, Горчаков ассистировал, а потом оставил пацана помощником по бараку. Должности такой не было, но Сашку никто не трогал, и тот стоял на раздаче, топил печку и бегал с мелкими поручениями на вахту или в штабной барак. Работник он был плохой, не то, чтобы ленивый, но мог заснуть, где угодно, даже, как вот сейчас – в коридоре, на угольном ларе – за углем пошел и прилег, а там минус десять, не меньше. Как и все зэки Сашка любил только две вещи – жратву и сон. Полы ему мыть Белозерцев не доверял – только грязь развозил. Шура сам их драил, удовольствия в этом не было никакого, ясное дело, но Шура любил, когда становилось почище, и видел, как Горчаков доволен. Да и больные посматривали на него вроде и с недоумением – чего мужик корячится, но и одобряли чистоту.
Белозерцев нащупал под бушлатом тощее, будто резиновое Сашкино ухо, потянул легонько и зашептал в это ухо:
– Еще раз, бля, увижу, на общие отправлю! Понял меня?!
Сашка соскочил с ларя, сунулся, было, к двери, но вспомнив, что пришел за углем, открыл крышку. Белозерцева он не боялся. Получал от него каждый день, но злобы в санитаре не было и даже наоборот – его родной отец к нему так хорошо не относился.
Пришли медсестры, принесли запах воли. Дневальные притащили из столовой чай, нарезанные хлебные па?йки на больших подносах и сахар. Сашка встал на раздачу, а Белозерцев, наказав ему выстирать бинты и следить за парашами, быстренько выпил чай, надел под бушлат чистый белый халат и пошел к земляку Женьке Малых.
Женька был не просто земляк, они жили в Куйбышеве на соседних улицах. Тогда, правда, они не знали друг друга. Женька, в отличие от Шуры, успел демобилизоваться и хорошо погулять, отходя от войны и душой, и телом. Шура за это время сменил два лагеря, один другого хуже, прошел три пересылки и четыре разных бригады.
Они познакомились на этапе, в трюме теплохода «Иосиф Сталин», и Шура всю дорогу до Ермаково расспрашивал, как там теперь на его улице и в их доме, и не встречал ли он такой симпатичной, рыжеватой женщины средних лет с двумя белобрысыми пацанами шести и восьми годков? Спрашивал про рынок, почем там жратва? Работают ли теперь, как раньше, пивные в парке над Волгой, и все так ли хорош закат солнца на ту сторону реки, когда сидишь в такой пивной? Там все было так же, Женька рассказывал с подробностями, привирал весело, особенно про свои похождения с девушками. В лагерь он загремел за драку с милиционерами, как раз в этом парке в центре города, но больше за пьяные высказывания в адрес родной власти во время этой драки. Он, с одной стороны был сынком большого начальника и скорее всего поэтому получил всего семь лет, а с другой – ловок был пристраиваться. Только прибыли в Ермаково – это был его первый лагерь – Женька устроился писарем, а вскоре стал личным секретарем начальника лагеря Воронова.
Белозерцеву Женька был должен – зачем-то срочно надо было лечь Женьке в лазарет – и Шура ему помог. Лагерный долг – дело святое, Шура теперь очень рассчитывал на разовый пропуск за зону – секретарю начальника это было раз плюнуть.
Было уже семь утра, у вахты, как днем было освещено прожекторами, а за ней снова черная, как деготь, ночь и плохо освещенный поселок. Хорошо, что темно! – думал Шура, поглядывая за колючку, – с закрытыми глазами дорогу найду, по темноте и вернуться можно. Он не сказал ничего Горчакову, потому что нечего пока было сказать, с пропуском могло не получиться.
Барак земляка располагался в такой же палатке, что и их лазарет, но обитали здесь не семьдесят, а, дай бог, человек двадцать. В одной его половине была парикмахерская, где и жили стригали?, в другой – высокие чином лагерные придурки. Стены были хорошо утеплены фанерой и войлоком, а все помещение разделено на комнатки по четыре человека. Вместо нар – кровати с матрасами и бельем. Работу они начинали часа на два позже. Шура сунулся в нужную комнату:
– Здорово, земеля! – шепнул вежливо.
Женька с товарищем пили крепкий чай в стаканах с подстаканниками, замолчал, увидев Белозерцева, забыл, видно, что приглашал. Шура не смутился, присел по-свойски на койку, бросил рядом ушанку и достал папиросы. На стол не смотрел, чтобы не подумали, что ради харчей пришел. Закурил. Огляделся. Ему почему-то приятно было побыть с лагерной придурней – какое-никакое, а начальство. Покивал одобрительно головой – хорошо, мол, живете, имеете право.
– Вы пейте, пейте, я попил… – Шура расстегнул бушлат.
– Эй, дедко! – стукнул Женька в фанерную стену, – притащи кипятку.
Он приоткрыл тумбочку, достал коляску «Краковской» и сунул Шуре:
– Возьми с собой, да чайку попей с булкой, маслице самарское мажь, – он кивнул на стол.
Булка была белая, как сметана, с румяной коркой, не из посылки, понятно, а свежая, из пекарни, пахла, как сатана на всю комнатку, даже запах колбасы перебивала. Шура сглотнул слюну, впихнул колбасу во внутренний карман бушлата, проверил, не вывалится ли и кивнул головой, можно, мол, и чайку. Не жадный был земляк, будет возможность, тоже отблагодарю, – подумал Шура и снял бушлат, оставшись в белом халате поверх телогрейки. Дедок-дневальный вошел с большим чайником. Женькин товарищ, тоже, видно, штабной писарек, допив чай, вышел молча.