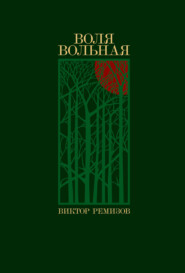По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вечная мерзлота
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Звала меня Поля, да я не на воле! Эх-эх! – врезал Шура себе по ляжкам и бегом припустился в санчасть.
Горчаков сидел с книгой и со скальпелем в руках. Рассматривал рисунок устройства глаза, прослеживая скальпелем какие-то сосуды. Поднял на Шуру сосредоточенный взгляд:
– Шура, собери все для перелома. С крыши кто-то упал. Вместе пойдем.
– Куда же, Георгий Николаич? – не верил своим ушам Шура.
– В поселке, у Дома культуры…
Уже через час Горчаков с Белозерцевым, миновав вахту, шагали по улице Ермаково. Остановились, пропуская припозднившуюся бригаду. В густых сумерках полярной ночи заиндевевшая от мороза, припорошенная снежком колонна, казалось, была составлена из призраков – серые ватные штаны и бушлаты, серые казенные маски от мороза на лицах. И валенки были серыми и громко скрипели окаменевшим от мороза стеклянным сумеречным снегом.
Шел уже десятый час, до первых признаков зари, рассеивающей ночной мрак, было еще часа полтора. Шура все не решался спросить, только хмурился и прятал лицо под маской. Лицо Георгия Николаевича тоже было скрыто, только брови и ресницы побелели от дыхания.
– Полина Строева у нас работала осенью, – освобождая рот от маски, заговорил, собрав все свое мужество, Белозерцев. Глаз у него трусливо и лихорадочно горел. – Помнит меня. Письмецо написала! – Он переложил чемоданчик с медикаментами в другую руку и похлопал себя по карману.
– Что? – скосил на него глаза Горчаков.
– Сбегать бы мне на часок, да как вот, думаю… Она пишет, мол, сохнет по мне, забыть не может… – Шура и сам начинал верить своим словам. – В двух шагах живет! – ткнул чемоданчиком в проулок.
Горчаков продолжал идти молча, только головой кивнул. И Шура вдруг, как-то разом успокоился. Кивок этот Горчаковский означал: не суетись, Шура, ради бабы не стоит, а будет возможность – сходишь! И Шуре надежно стало от этих правильных слов Николаича, будто отец родной приласкал и не осудил, а поддержал.
Водовоз, по-бабьи перевязанный толстым платком, даже глаз не было видно, шел им навстречу рядом с санями, и подхлестывал бедную лошадь. Полозья на таком морозе не скользили по снегу, а скрипели-орали на всю ивановскую – проще было по песку волочь, – прикинул Шура. Деревянная пятидесяти ведерная бочка косила сани на один бок – льда на ней наросло больше, чем внутри было воды. И прорезь наверху бочки, и лошадь были прикрыты попонами. Морда же и мохнатый круп животного густо белели от куржака.
Подошли к объекту. Это было длинное брусовое здание, в котором ни печей еще не стояло, не прорезаны двери и окна, а над половиной здания только начали крышу. С этих-то стропил и упал пожилой сухощавый работяга и умудрился сломать лучевые кости на обеих руках. Вся небольшая бригада по такому случаю, собралась у раскаленной до алого сияния печки-бочки. Горчаков осторожно ощупал опухшие переломы и открыл чемоданчик – достал временные шины.
– Иди, сходи, если недолго… – негромко сказал Шуре, – если что, скажешь, я послал за обезболивающим.
Шура благодарно сверкнул глазами в темноте и направился к выходу, но вдруг вернулся:
– Вы тут без меня…
– Иди-иди, я небыстро… к часу надо в лазарете быть.
Внутри барака было глаз коли, слабый свет шел только из дальнего конца, над которым не было крыши. Холодно было почти, как на улице. Горчакова с упавшим устроили возле буржуйки. Посматривали на работу фельдшера, переговаривались. Кто-то жалел немолодого мужика, кто-то прикидывал, сколько тот будет на шконке припухать-отдыхать и не прицепится ли особист, не объявит ли саморубом[76 - Человек, сознательно причиняющий себе увечье, чтобы не работать в тяжелых условиях.]. Бригада вся была из бытовиков с одним охранником, который ходил с ними не первый уже раз и хорошо всех знал. В нарушение инструкции он сидел тут же, среди мужиков, на заботливо подставленном пеньке, в распахнутом тулупе и с автоматом на коленях – тоже грелся. И хотя кто-то из бригады в ласковый момент мог у него и махорочки стрельнуть, совсем рядом со стрелком никого не было. Не ближе двух-трех метров – привычка, которую заключенные навсегда усвоили в первые же дни неволи.
Двухсотлитровая буржуйка, жрущая по кубометру дров за смену, затихала, бока ее из алых потемнели до рубиновых, в помещение возвращался мороз.
– Подбрось, кто там? – стрелок внимательно глядел, как Горчаков бинтует руку.
Бригадники что-то негромко заспорили меж собой, стрелок поднял на них голову. Дрова – обрезки строительных досок и бруса, собранные с утра по объекту, кончились, надо было чего-то придумывать. Бригадники косились на штабель новенького бруса. Стрелок понял их, усмехнулся, и, расстегиваясь на ходу, пошел по малой нужде в дальний конец барака. Один брус в три ножовки тут же распилили на чурбаки и, наколов, запихали в печку.
Горчаков не торопился, опытной рукой щупал сломанные кости, наматывал расползающийся стиранный бинт. Тоже закуривал, поглядывая на огонь, гудящий в печке. Он наблюдал отношения работяг и охранника, и шкурой старого заключенного ощущал, что жизнь на строительстве наладилась. Как будто все, и работяги и охранники договорились меж собой против малоумной и бесчувственной государственной машины. Неразбериха и нервы первых месяцев улеглись, и наступили странные, но всем понятные и почти справедливые отношения несвободных людей. Всем было одинаково плохо – Горчаков рассматривал бригадников и вернувшегося к печке охранника – одни лица, одни и те же крепкие рабочие плечи и руки. Только и разницы, что один в тулупе, а другие в бушлатах. Любой из них мог влезть в этот тулуп и повесить на плечо автомат. А стрелка легко могли нарядить в серые ватные одежды.
Шура мелкой нервной перебежкой летел к зазнобе, и побежал бы, да не хотел привлекать к себе внимания. В голове мешалось все подряд – что будет говорить, если нарвется на патруль, что скажет Поле. Хотелось что-нибудь повеселей: здравствуй, Поля, вот и я! Позвала, и я явился! Как жила ты без меня? Прямо Пушкин… Поля, ты моя, Полюшка, вольная, ты моя волюшка! Он вспоминал, как подбивал к ней клинья, как шуточки шутил, а у самого все кишки выворачивало от сладкого преступного желанья. И все сомневался – она была молоденькая, симпатичная медсестра, окончившая училище, а он вояка, грязный санитар подай-принеси-полы помой… вчера вечером он тщательно выстирал трусы и майку, и разрезал новые портянки, которые до этого на ноги не наматывал, а использовал, как шарф.
Полины не было дома!
Она была на работе в больнице для вольных! Шура не поверил, открыл дверь к соседям, он пытался быть вежливым и улыбался, но глаз у него, видно, нехорошо блестел, да и смотрели на зэка в белом халате с недоверием, так, что он даже достал и показал пропуск. Полина соседка выглянула из их комнаты и тоже строго за ним наблюдала. Шура помялся, проглотил матюшки, скопившиеся на языке и поплелся на улицу. До больницы, где сейчас была Поля, уже не успеть было.
Он и хотел идти быстро, понимая, что Горчаков ждет, да ноги не шли, убитые горем. Так повезло, так размечтался-разохотился, что и предположить не мог, что она не сидит и не ждет его. Эт-то какой же мудила! Три дня суетился, и на тебе! Черная тоска текла по душе!
Ни одного патруля не встретилось. Горчаков ничего не спросил. И так все было понятно. Когда подводили переломанного к вахте, из-за поселка краем неба вставала морозная, желтоватая заря. Другой раз Шура и порадовался бы ей, а еще тому, что побывал за колючкой, но теперь только вздохнул тяжко, устраивая мужика на нары. Лицо Шуры было серым и думы такие же…
Был бы свободный, полетел бы к тебе на крылушках, дорогая моя Полюшка. Все бы бросил и полетел. Прижал бы тебя к груди своей так, чтобы все кишочки в тебе затрепетали, и заглянул бы в глаза твои, – такое-всякое вертелось в голове, но тут же и ребятишки, и незабвенная жена Вера Григорьевна приходила на ум. Как-то ей теперь там… тоже, небось, несладко… так же, может, мужичка себе ма?нит! Горькие мысли скребли Шурину душу когтями тоски. Полюшка, да Верушка, кто нас развел, разделил, кому, какому зверю поганому в ножки за это кланяться?!
В два часа из ермаковской больницы вернулся санитар, сказал, что хирург Богданов в Игарке, и ни сегодня, ни завтра его не ждать. Горчаков стал совещаться со старшей медсестрой. Глаз надо было удалять, капитан кончался. Белозерцев сунулся к нему, он лежал, и не стонал, не бредил уже, а только открывал и закрывал оскаленный и перекошенный рот. Может, и под морфием был. За стеной Горчаков вполголоса объяснял Рите, как устроен глаз с обратной стороны, и как, предположительно, надо ему будет идти скальпелем, который совсем для этого не подходил.
– А вы уже удаляли, Георгий Николаич? – слышался недоверчивый голос Риты.
– Никогда и не видел вынутого глаза. Даже коровьего.
Через двадцать минут Шура внес в комнатку Горчакова баранью голову с двумя глазами. Коровьей не было. Через знакомого хлебореза вышел на повара, все рассказал, как есть, и еще добавил хороший пакетик заныканого веронала. И вот принес. Горчаков нахмурился, когда Шура размотал грязную простынь, но вскоре они с Ритой уже ковырялись с пучеглазыми бараньими зенками. Шура, представлял, что они, то же самое будут сейчас делать с капитаном, и не мог смотреть. Проверил кипяток, параши и печки. Заставил Сашку отпарить и отдолбить загаженные за день толчки, керосину долил в движок, дающий свет.
Пока работал, думал про неслучившуюся свою любовь, про землячка расторопного, про годики свои поганые, еще четыре их, развеселых, маячило впереди. До неведомого какого-то пятьдесят третьего определено было старшине Белозерцеву куковать в этих краях.
Было уже полпятого, на улице серые дневные сумерки снова сменились мглистой, беззвездной заполярной ночью. Он вспомнил про капитана, сунулся к Горчакову. Тот, не включая света, лежал на узких нарах в своей комнатушке, даже головы не повернул. Шура притворил легкую фанерную дверь. Ритка шла по коридорчику, что-то марлей прикрыла на подносе. Спирт развела, – понял Шура.
– Ну что? – спросил скорее взглядом, чем голосом.
– Ужас, Шура, никогда больше не буду… – Рита прикрыла мягкие темные глаза. – Георгий Николаич сам изрезался, пока вынимал, да чистил. Я еле стояла… – Она не договорила, закачала головой и, толкнув дверь плечом, вошла в темную комнатку Горчакова.
Шура понимающе поскреб подбородок, зашел в операционную к капитану, тот спал на койке. Голова перевязана. На столе и возле куски окровавленной ваты валялись, грязные бинты. Шура удивился, что всегда аккуратный Горчаков не распорядился, чтоб убрали. Он налил кипятка из бойлера, разбавил холодной и, стараясь не шуметь, стал прибираться. За перегородкой в комнатке Горчакова сначала было тихо, потом послышались очень понятные Шуре шорохи. В висках застучало, он быстро дособирал бинты и вату, и вышел в коридорчик. Тут было не так слышно. Белозерцев встал, охраняя комнату Горчакова, хмурясь и успокаивая себя, но сам все прислушивался невольно и нервно. То же и у него должно было случиться с Полюшкой.
По проходу широко расставляя ноги – пораженная рожей мошонка висела почти до колен – шел к Шуре больной «западэнец» Мыкола Ковтун. Хмурый, с давно небритой измученной болью мордой, молча кивнул на полку с поллитровыми банками сульфидиновой эмульсии.
– Бери, – кивнул ему Шура.
Рожистых больных ничем не лечили, как-то оно само проходило, мазали только воспаленные места этой мазью, сильно вонявшей рыбьим жиром. И ожоги, и раны ей же мазали. Мыкола выбрал самую полную банку и все так же раскорячившись, поплелся обратно в полумрак храпящего, кашляющего, стонущего и матерящегося лазарета.
Они курили у входа с Ритой. Медсестра была одного роста с Шурой, с большой грудью и округлой задницей, и еще Белозерцеву всегда нравилось ее лицо. Не так, как нравятся красивые лица женщин, а как-то по-другому, уважительно нравилось. Он затягивался и думал, как бы ловчее порасспросить Риту про Полину, но та вспомнила что-то о своей пятилетней дочке, потом заговорила о Горчакове:
– Нельзя Георгию Николаевичу оперировать, он и спокойный вроде, а видно, что жалеет, все через себя пропускает. Богданов – тот, как камень всегда… – она поежилась от холода, посмотрела на Шуру темными и честными глазами.
Шура постоял еще некоторое время, раздумывая, он, из-за утренней своей неудачи, хотел подкатиться к Ритке, она бы, наверное, не отказала, да чувствовал неловкость. Николаич большое дело сделал, его было за что пожалеть, а меня-то за что? Разохотившийся Шура невольно оглаживал глазами пухлые Риткины прелести. И думал, что хорошая она баба, всех жалеет, иной раз и несчастному больному какому даст, а «блядью» язык не повернется назвать. И Георгий Николаич ее уважает, – уверенно заключил Белозерцев.
– Мы с начальником стройки, с Барановым – однодырники! – похвастался вдруг Шура.
Рита слушала молча, докуривала папиросу.
– Помнишь, у нас летом Жанна лежала, актриса расконвоированная из театра.
Рита кивнула спокойно.
– У нас с ней любовь была, она мне потом записки передавала… – соврал Шура про записки, записка была одна. – А у нее как раз был роман с самим Барановым… Нежная была женщина, с обхожденьями любила. Так что… однодырники, выходит.
Неожиданно из-за угла вывернулась тень ночного санитара Васьки Трошкина. Оба вздрогнули, Шура не сразу его и узнал – из носа и со лба сочилась кровь, а губы были разбиты в хлам и раздулись, как у коровы – под тусклой лампочкой, освещающей вход, Васька выглядел негром с картинки.
– Ты чего это? – удивился Белозерцев.