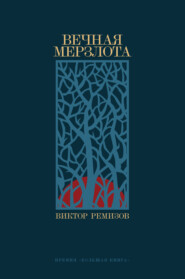По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Воля вольная
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Тут дело в другом, моей жене совсем не интересно то, что интересно мне. Ей и себя хватает. Там, на материке, все уже по-другому… – пояснил Жебровский.
– А где работает? – перебил Поваренок.
– Она искусствовед. – Жебровский сказал и глянул на Кольку.
– Да может, у нее есть кто? – то ли нахмурился, то ли улыбнулся Поваренок. – Воля, она и добрую жену портит… Дело житейское.
– Ну-у… – Жебровский взял кружку, заглянул в нее, – я не думаю…
– Думай, не думай, оно само собой заводится, ну и… вернулся домой, все нормально? Значит, и хорошо. Ничего не надо думать. Уезжаешь на три месяца свои удовольствия справлять, а она что, сдохнуть должна?
Колька посмотрел на дядь Сашу, ища поддержки, но тут же понял, что не по адресу обратился, и все же он очень доволен этой своей смелой мысли был.
– Сами-то… – Повернулся к Жебровскому. – Не святые небось, что же бабы должны терпеть?
Жебровский пожал плечами. Дальше ему явно не хотелось говорить.
– Что-то ты, Поваренок, раздухарился, искусствовед хренов. Сдохнуть они должны… никто без этого еще не подох, – передразнил дядь Саша. – В прошлом году в бригаде каждый день со своей трещал. Две рации с собой взял, чтоб, не дай бог, не сломалось. Каждый день, утром и вечером, – кивнул он Жебровскому.
– У меня Димка маленький тогда был… – подскочил Поваренок. – Годика не было.
– Так, может, и парнишка не твой? Тебя ж по полгода дома не бывает? – Дядь Саша хитро смотрел из-под лохматых бровей.
– Вот собака, гад! – выругался Поваренок беззлобно и, повернувшись к Жебровскому и тыча пальцем в дядь Сашу, добавил: – Он моему Димке крестный батька…
– А ты не заговаривайся. Ждет моя меня, и нормально. И я никуда не озираюсь! Никак по-другому и быть не должно. Тут все правильно устроено.
– Ну а если она маленько того… маленько «посмотрит» на кого, что, убудет от нее?
– Убудет, – сказал дядь Саша спокойно и внятно. – Он поднялся с корточек от печки, и Жебровский опять удивился, какой он крепкий. – Все это знают, Коля. И ты своей каждый день звонил, потому что она каждый день ждала. – Дядь Саша сел за стол. – Вот яблоко, – он взял в руки краснобокое яблоко, – красивое! Плотненькое, в нем жизни полно, пока оно целое… а ковырни его ногтем, чуть-чуть ковырни… Через два дня выбросишь!
Дядь Саша осторожно положил яблоко в миску.
– Все это знают, и все ковыряют, – философски заметил Колька.
– Почему ковыряют-то? Вот вопрос!
– Да себя, видно, любим, от этого всё… – Поваренок потянулся за бутылкой. – Что-то не пьем ни хрена…
– Это понятно…
Разговоры о смысле жизни не способствуют пьянству. Мужики покурили, обсудили что-то незначащее на завтрашний день и, хотя собирались ночевать у Жебровского, разъехались. Дядь Саше что-то понадобилось дома, Поваренок… все равно, мол, мимо меня поедешь… и Жебровский остался один.
Он неторопливо убирал со стола, мыл посуду, думал о странной, непонятно на чем основанной уверенности дядь Саши, о его Полине, невольно представлял свою жену здесь, в этом домике, и ему становилось непонятно и смутно на душе. Голова, как заглючивший компьютер, выдавала набор картинок: пустой лондонский дом, пустая почему-то московская улица с мелким дождичком, зимнее, утреннее и безлюдное парижское кафе с зевающим официантом… Везде было скучно, везде он был один, ничего не делал, и ему ничего не хотелось делать. Он хмурился, звал на помощь белое спокойствие своего участка, гор и тайги. Но сейчас почему-то и туда не хотелось.
5
Степан Кобяков был чуть выше среднего роста. Крепкий, большерукий, как все промысловики, и молчаливый с вечно не то угрюмым, не то внимательным, но недолгим взглядом из-под лохматых бровей. Лицо самое простое, неброское, нос небольшой картошкой, темно-русые волосы. Не было в нем ничего красивого или просто приятного. Во взгляде всегда одно и то же – ровное спокойствие, не допускающее ни соплей, ни ругани, ни лишних слов. Не понять по нему было – доволен он, нет ли. Когда ему было интересно, слушал внимательно, но вопросов не задавал, компаний ради компаний не признавал, и пьяным его никогда не видели. Всю жизнь, сначала с отцом, а с семнадцати лет один промышлял в тайге, на своем участке – все у него было свое, и все исправно работало. Он был закоренелый одиночка, и его невольно уважали, может, кто и недолюбливал за обособленность от людей, но уважали. В конце концов, плохого он никому не делал.
Может, такой вот матерый мужик и составлял когда-то основу русской породы. Не могли же лодыри да пьяницы отломить, а потом еще и освоить полмира…
Больше всего Степан походил на портового грузчика, плечи и ноги которого будто созданы были для неторопливой, с покряхтыванием, тяжелой ноши, но Кобяков был легок на тропу. Под тяжелым рюкзаком и уставший – вторые сутки уже не спал, – он ходко шел вдоль Рыбной. Пойма была широкая, где пять, а где и все десять километров, со многими рукавами, островами и большими галечными косами. Тальниками заросшая, на высоких местах старыми тополями. Хорошей тропы вдоль реки и быть не могло, и Степан обходил заломы и перебредал рукава, но по дороге, которая в нескольких километрах отсюда тянулась открытой тундрой, идти ему было нельзя.
У Манзурки чуть не столкнулся с мужиками. Те сидели под берегом на поваленном дереве и потихоньку выпивали. Костерок горел. Водитель по старинке клеил пробитое колесо. Степан взял собаку на поводок, вернулся и обошел лесом.
Как зверь инстинктивно сторонится неприятностей, так и он избегал людей, совсем, может, ему и безвредных, и уходил все дальше и дальше, отстаивая право на свободу. Не раздумывая, столкнул он тот «уазик» со своей дороги и так же шел сейчас. Перед ним, впереди, была свобода, за ним же… Что было за ним, он не думал. Сто из ста гадали бы, что там теперь делается и каким боком вылезет, Степан же, как горбатый якутский сохатый, пер своим курсом. И этого было достаточно.
Он чувствовал свою правоту не только перед наглым майором, который полез в тягач, но и перед ментами вообще. Он презирал их, думал о них как о мышах, шуршащих ночью по зимовью. Взять они его не могли. Никак.
Что же касается государства, то тут Степанова совесть была совсем чиста. Государство действовало безнаказанно и о грехах своих никогда не помнило. Он знал за ним столько старых и новых преступлений, за которые оно никак не покаялось перед своим народом, что не признавал его прав ни на себя, ни на природу, о которой это государство якобы заботилось.
Так, ни разу не поев, шел до вечера. Солнце час как село на якутскую сторону за Юдомский хребет и сначала заиграло закатными красками, потом погасло, и цвета ушли к Степану за спину на восточный склон неба. Он перебрел протоку, остановился на мысочке острова, заросшего лесом. Сбросил рюкзак и стал внимательно смотреть на окрестные вершины. Он прошел больше сорока километров. До ближайшего зимовья на его участке оставалось примерно так же. Надо было обойти деревню и потом… он думал, идти ли своей тропой, которую еще Степановы деды пробивали на участок, или… нельзя было идти этой дорогой. Ей пользовались деревенские. И через соседский участок тоже нельзя, Генка Милютин обязательно поймет, что к чему. Степан решил идти верхами, так было дальше, но так его никто бы не вычислил.
Он действовал как старый зверь, уходящий из загона, шкурой понимающий, что надо исчезнуть для охотников – отстояться, выйти вбок или как-то еще, но нельзя попадаться им на глаза. Самым опасным будет первое время, недели две, не больше. Потом инстинкт погони слабеет. Вспомнив про Генку Милютина, Степан, может, первый раз в своей жизни подумал, как к нему теперь относятся мужики. Знают уж все, конечно, по рации обсудили.
Костер разгорался. Карам притащил с реки здорового зелено-малинового кижуча и с хрустом грыз его хрящеватую голову. Рыба, без мозгов уже, с перекушенным хребтом, временами начинала колотить хвостом, стараясь уплыть. Степан, широко зевая, нехотя доел тушенку, бросил банку в костер и сел спиной к дереву, накрывшись спальником. На ногах были зимние «шептуны» на толстой войлочной подметке, под задницей варежки и росомашья ушанка, карабин стоял у бревна. Он еще притирался спиной к дереву, а нос уже начал издавать тихий сап.
Утром напился чаю и вышел по темну?. Нехоженым, густо заросшим притоком направился в сторону от реки. Это был нелогичный и нелегкий путь, и крюк немалый, но он выспался, а медвежьи тропы за осень были хорошо натоптаны, и к обеду он поднимался уже невысоким отрогом. Изредка перекурить присаживался.
Настроение все же было так себе. Вчера, на бешенстве, а может, и от усталости он шел ни о чем не думая, теперь же в голову лезло всякое – то виделось, как у него во дворе делают обыск и допрашивают жену, то он с глазу на глаз, по-мужицки, решал этот вопрос с Тихим. Все это было перебором – жену не должны были тронуть, а с Тихим… вот это можно было бы… Степан шаг убавлял от этой мысли и тут же, упрямо мотнув головой, будто отряхиваясь от чего-то, шагал шире и тверже.
Не менты-ворюги придумали свет белый, и ни им было распоряжаться этими реками и горами и его мужицкой судьбой. Или этими вот ногами, давившими рыжую хвою тропы.
За спиной открывалась широкая тундряная долина Рыбной, а дальше начиналась горная страна с заснеженными вершинами и хребтами. Горы уходили в бесконечную даль, в синее марево неба. Подъем стал положе, лиственницы сыпали мягкую подстилку на присыпанную снегом тропу, на рюкзак, за шиворот. Впереди сквозь лес временами белели вершины хребтов его участка. Степан шел и чувствовал, как тепло любви ко всему этому охватывает душу. В лесу он всегда становился мягче – улыбался, с собаками, деревьями и горами молча разговаривал. Он рад был, что кончилась эта беспутица вдоль реки, и под ногами было твердо, что солнце поднялось над простором моря и светит в спину, и что часа через три он выберется на водораздел, на границу своего участка, и уже к вечеру будет чаевничать в избушке, в вершине Талой. И никакие менты не встанут у него на дороге. Эти поганцы так же его сейчас интересовали, как позавчерашний ветер.
Солнце грело щеку и левую руку на лямке. Правая мерзла. Стланики кончились, звериная тропа вышла на чистый склон и поднималась, становясь все круче, серо-коричневым сыпуном, который местами полз под ногами, скатывался с легким, глухим звоном, обнажая красноватую изнанку плитняка. Тропа уходила вверх зигзагами, сторонясь скал, то тут, то там торчащих по склону. Снег здесь всегда выдувало, и сейчас он рябыми пятнами лежал по укромным местам, сероватый, смешанный с пылью. Ветер к седловине становился все сильнее.
Он вышел почти на самый верх, снял рюкзак, отвязал и надел суконку. Карам отстал. Степан обернулся, посмотрел вниз, прислушиваясь сквозь шум ветра, не орет ли где, но услышал гул вертолета. Он взвалил на себя раскрытый рюкзак и заторопился обратно, вниз к ближайшим скалам. Вертушка шла со стороны его участка, ее не было видно, только гул нарастал, сбиваемый порывами ветра. Степан торопился, камни ползли под ногами, он бился коленками, резал руки. Он был уже в нескольких метрах от скальника, когда над белоснежным прогибом перевала вырвалась громкая оранжевая машина. Степан сел и замер. Вертушка прошла так близко, что ему показалось, что он слышит запах выхлопа. Это был Ледяхов, только он так низко летал в этих горах. Степан внимательно следил за вертушкой, понимая, что его не должны были заметить на рябом склоне. Машина удалялась, снижаясь к деревне.
Если Ледяхов высадил кого-то… Степан, недобро прищурившись, видел, как в его избушке хозяйничают менты. Он не боялся, за эту дорогу он твердо решил не отступать нигде. Что это значило, было понятно…
Он присел за скалку, лицом к солнышку, сбросил рюкзак и достал сигарету. Сидел, греясь и покуривая, пуская неторопливо синий дымок. Копченное солнцем и ветрами лицо заросло темно-пегой щетиной. С виду было оно спокойно, но покоя в нем не было.
Широкая долина Рыбной рыжела и голубовато туманилась под солнцем, перевальный ветерок налетал резвыми, несильными порывами. Кедровки орали рядом внизу. Погода вставала самая охотничья.
Степан сел под лямки, подаваясь вперед и наваливая рюкзак на спину, встал, шатнувшись от тяжести, взял карабин и стал неторопливо подниматься к недалекому перевалу. За ним в вершинах Они и Талой начиналась его тайга. На перегибе остановился под скалой, достал из рюкзака небольшой бинокль и долго внимательно смотрел в сторону участка. Он искал дым над зимовьями – дыма не было. Почти по-зимнему все было укрыто снегами, стланики присыпаны и издали казались серыми.
Подбежал Карам, брякнулся рядом на снег, глянул на хозяина черно-белой мордой, но тут же вскочил, вытянул морду и настроил уши вниз по склону. Степан схватил его за вздыбившийся загривок и с силой придавил к земле.
Метрах в трехстах из мелких стлаников прямо на чистое вывалился лось. Зверь был матерый, на снегу казался черным, он чуть забирал к перевалу, здоровые светлые лопаты колыхались и блестели на солнце. Степан надел Караму веревку на шею и выразительно на него посмотрел. Этого было достаточно, пес лег и положил виноватую морду на лапы. Руки сами собой привычно готовили карабин. Лось вел себя странно – шел торопливо и не тропой – спотыкался по камням, временами замирал и глядел назад. Уходит от кого-то, понял Степан. Ни ментов, они все еще крутились у него в голове, ни охотников тут никак не могло быть… Может, в стланиках на мишку нарвался? Сохатый в начале охоты был делом не худым. Господь и тут был на стороне Степана.
Зверь остановился. Сверху, отрезая его от перевала, в седловинку спускался волк, из стлаников, откуда вышел лось, появился еще один – так же открыто бежал неторопливо. Загоняют, понял Степан. К скалам гонят. Или на крутяк. Степан проверил Карама, машинально погладил-придавил умную собачью голову к земле, достал бинокль и, черпая снег в рукава, пополз между камней. Выглянул осторожно. Отсюда вся покать была как на ладони. Ниже его в камнях, прижавшись к земле, лежали два волка. До них было метров сорок. Не поднимая голов, одними глазами наблюдали за сохатым. Еще ниже, загораживая выход в стланики по ручью, лежал еще один, этого Степан видел плохо – только задняя часть торчала на фоне снега. Вот урки, пятеро на одного… нехорошо… меня вы не посчитали, конечно… В другой раз он не особенно и размышлял бы, но тут – прямо интересно стало – уйдет сохатый от волков или что?
Бык, видно, был тертый и знал это место не хуже серых: постояв немного, он не пошел, куда его гнали, а выбрался на тропу и направился вниз и вбок, намереваясь перевалить в соседний ключ. Степан смотрел в бинокль и соображал, что делать, когда в поле зрения возник еще один волчара. Он стоял на высоком камне в сотне метров впереди сохатого. От, суки, сколько же вас! Степан и раньше видывал, как волки загоняют, но чтобы так вот…
За здорово живешь сохатый не дастся, волки это понимали и теперь уравнивали силы, загоняя его в камни. Степану выгодно было, если бы зверь шел к нему, но он неожиданно для себя прошептал: молодец, не надо, никогда не надо идти туда, куда тебя гонят. Ты же не баран.
Лось шел уверенно, будто не замечая того, на камне, он удалялся от охотника, и Степан, очнувшись, уже начал пристраивать карабин, но зверь вдруг опять остановился. Впереди сохатого было уже два волка. Они сошлись и неторопливо семенили ему навстречу. Рогач, не выдержав, снова развернулся вверх.