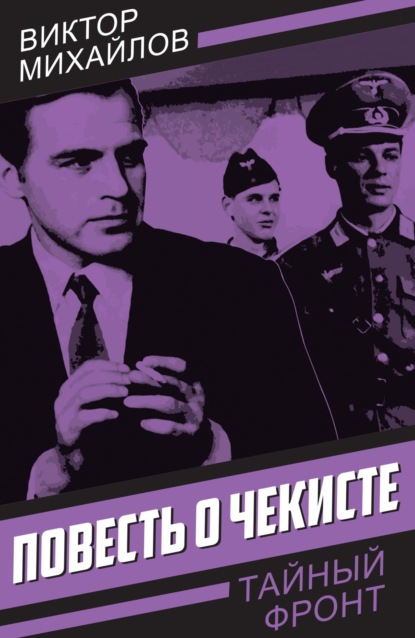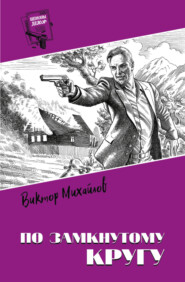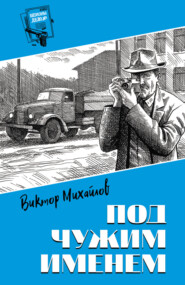По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Повесть о чекисте
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да, я. Вы мне давали деньги, подписывали акт. Я вам, Николай Артурович, показывал все слитки.
– Да, да, помню. Отличный был баббит. Так вот, завтра у нашего пирса ошвартуются два сторожевых катера и один буксир. У всех перезаливка подшипников. Вот три тысячи марок, Василий Васильевич, купите баббит.
– Расписку написать? – спросил Гнесианов, деловито пересчитывая оккупационные марки, или «рейхскредиткассеншейн», или РККС, как попросту называли кредитки, выпущенные немцами для территории между Днестром и Бугом.
– Зачем же мне расписку? – усмехнулся Гефт. – Разве мы не доверяем друг другу?
– Баббит вам показать?
– Порядок этого требует… Можете прямо сейчас поехать за баббитом…
– Спасибо, мне в цех надо…
– Как вам угодно, но чтобы баббит сегодня же был на заводе.
Озабоченный, Гнесианов вышел, а Гефт следом отправился на поиски Полтавского и нашел его с бригадой все на той же шаланде. Двигатель был установлен, и механик готовился к ходовым испытаниям.
Вызвав Полтавского на верхнюю палубу, Гефт сказал:
– Давно дожидается обещанная бутылка. Как смотришь, Андрей Архипович, если сегодня, к вечеру? Вино знатное, крепкое, венгерское бренди. На закуску есть баночка бычков…
– До чего заманчиво! – Полтавский проглотил слюну. – А дислокация?
– Знаешь что, пригласи еще Ивана Александровича Рябошапченко! Посидим втроем у него в конторке. Не возражаешь?
– Дело хозяйское! Стало быть, в шесть у Ивана Александровича в конторке. Будет передано!
Увидев возле эллинга инженера Сакотту, Гефт пошел к нему просить машину: надо было срочно поехать «за материалом».
Сакотта разрешил, но потребовал, чтобы к двум часам дня машина заехала за Купфером – он на совещании в дирекции порта у Дорина Попеску.
«Ну что ж, – подумал Гефт, – важное сообщение в двенадцать, к двум машина будет свободна».
Ровно в одиннадцать сорок пять Гефт остановил машину на Болгарской улице возле дома с проходным двором и приказал шоферу ждать. Через второй двор он вышел на Малороссийскую и условно постучал в дверь квартиры Семашко.
Зинаида работала на железной дороге, но в этот день, сказавшись больной, осталась дома и ждала Николая.
Кроме них, в квартире никого не было, но, соблюдая предосторожность, они спустились в подвал и закрыли за собой творило.
Николай зажег лампу, включил радиоприемник. Наушники они поделили, блокноты и карандаши были у каждого.
Наступила томительная пауза.
Боясь пошевельнуться, они вслушивались в наушники, в их тихо шелестящий звук, словно шум морской раковины. Но вот лампы нагрелись, послышался мелодичный звон, легкое комариное пение, затем все явственнее, все слышнее проступал в наушниках отсчет метронома… Тик-так… Тик-так… Тик-так… Тик-так… Эти позывные станции, этот счет времени вызывал ответный взволнованный стук сердца.
Николай посмотрел на часы: было без пяти двенадцать.
Вдруг они услышали звонкий хлопок, точно где-то там, в штурманской рубке страны, сняли с переговорной трубы крышку… И долгожданно и неожиданно прозвучал взволнованный голос Левитана:
– В двенадцать часов по московскому времени слушайте важное сообщение Советского информбюро!..
Придерживая левой рукой наушник, правой Зина прижимала карандаш острием к бумаге, чтобы унять в руке дрожь ожидания.
Николай видел ее состояние, но и он не мог совладать со своими нервами, сердце билось учащенно и тревожно.
– В двенадцать часов по московскому времени слушайте важное сообщение Советского информбюро! – снова, как и в первый раз, прозвучал голос Левитана, но казалось, что сказано это было по-новому, с какой-то особой, захватывающей значительностью…
И снова звучит метроном, настойчиво, неумолимо, как часы, ведущие время к неизбежному взрыву победы.
Стрелка часов на руке Гефта приближается к двенадцати…
В подвале душно, или душит волнение, пот заливает глаза.
В наушники врываются звуки кремлевской площади, неясный говор, гудки автомобилей, рокот моторов и шелест шин по брусчатке… Но вот все эти шумы поглощает первый аккорд курантов, празднично вступают трубы, льется песнь страны… С последним звуком гимна они снова слышат голос Левитана, удивительный голос, он звучит торжественно и задушевно:
– На днях наши войска, расположенные севернее и восточнее города Орла, после ряда контратак перешли в наступление против немецко-фашистских войск…
В ходе наступления наших войск разбиты немецкие 56, 262, 293-я пехотные, 5-я и 18-я танковые дивизии. Нанесено сильное поражение немецким 112, 208 и 211-й пехотным, 25-й и 36-й немецким мотодивизиям.
За три дня боев взято в плен более 2000 солдат и офицеров.
За это же время, по неполным данным, нашими войсками взяты следующие трофеи: танков – 40, орудий разного калибра – 210, минометов – 187, пулеметов – 99, складов разных – 26.
Уничтожено: танков – 109, самолетов – 294, орудий разного калибра – 47.
За три дня боев противник потерял только убитыми более 12 000 солдат и офицеров.
Наступление наших войск продолжается.
Выключив приемник, погасив лампу, они выбрались из подвала и сверили свои записи.
Чувство гордости и торжества, ощущение праздничной приподнятости не покидали их.
– Зина, надо сводку размножить, Пока у нас нет машинки, придется это делать от руки, печатными буквами. Да! – вспомнил он. – Если Артур дома, можешь его привлечь. Завтра же вечером сводка должна быть расклеена во всех районах города.
«Теперь понятно настроение Загнера и экстренное совещание в дирекции порта. Все ясно», – подумал он, направляясь к поджидавшей его машине.
В центре он приказал остановиться возле киоска и купил газету «Одесса», одну из двух частных газет, принадлежащую Георгию Г. Пыслару. Очень было интересно взглянуть на немецкую сводку с фронтов войны.
«Берлин (Бугпресс), – читает он. – Германское верховное командование из генеральной ставки фюрера в сводке от 15 июля 1943 года передает:..на участке у Орла все атаки большевиков отбиты с огромными потерями в живой силе и технике…» И все! Как будто советского наступления и не было!
«Фюрер, как всегда, лжет», – подумал Николай и перевернул страницу. Внимание его привлекла статья на третьей полосе: «Молебствие за упокой царя Николая II». Сотрудник господина Пыслару, не жалея сил, чтобы растрогать читателя, писал:
«…Стройно и задушевно пел хор церковных певчих. Будил окрест и замирал в голубой выси солнечного дня печальный перезвон колокольный. Впереди и по сторонам слышались сдержанные рыдания, виднелись слезы на юношеских лицах, словно росинки из белесых лепестков!!!»
«Барон Мюнхгаузен! – усмехнулся Николай. – Там и молодежи-то не было! А чтобы трубное сморкание в грязный платок господина Пустовойтова выдать за „росинки“ на юношеских лицах, надо быть действительно бароном Мюнхгаузеном!»
Войдя к себе в кабинет, Гефт вздрогнул от неожиданности: за столом сидел толстый совершенно лысый человек с вислыми украинскими усами.
– Да, да, помню. Отличный был баббит. Так вот, завтра у нашего пирса ошвартуются два сторожевых катера и один буксир. У всех перезаливка подшипников. Вот три тысячи марок, Василий Васильевич, купите баббит.
– Расписку написать? – спросил Гнесианов, деловито пересчитывая оккупационные марки, или «рейхскредиткассеншейн», или РККС, как попросту называли кредитки, выпущенные немцами для территории между Днестром и Бугом.
– Зачем же мне расписку? – усмехнулся Гефт. – Разве мы не доверяем друг другу?
– Баббит вам показать?
– Порядок этого требует… Можете прямо сейчас поехать за баббитом…
– Спасибо, мне в цех надо…
– Как вам угодно, но чтобы баббит сегодня же был на заводе.
Озабоченный, Гнесианов вышел, а Гефт следом отправился на поиски Полтавского и нашел его с бригадой все на той же шаланде. Двигатель был установлен, и механик готовился к ходовым испытаниям.
Вызвав Полтавского на верхнюю палубу, Гефт сказал:
– Давно дожидается обещанная бутылка. Как смотришь, Андрей Архипович, если сегодня, к вечеру? Вино знатное, крепкое, венгерское бренди. На закуску есть баночка бычков…
– До чего заманчиво! – Полтавский проглотил слюну. – А дислокация?
– Знаешь что, пригласи еще Ивана Александровича Рябошапченко! Посидим втроем у него в конторке. Не возражаешь?
– Дело хозяйское! Стало быть, в шесть у Ивана Александровича в конторке. Будет передано!
Увидев возле эллинга инженера Сакотту, Гефт пошел к нему просить машину: надо было срочно поехать «за материалом».
Сакотта разрешил, но потребовал, чтобы к двум часам дня машина заехала за Купфером – он на совещании в дирекции порта у Дорина Попеску.
«Ну что ж, – подумал Гефт, – важное сообщение в двенадцать, к двум машина будет свободна».
Ровно в одиннадцать сорок пять Гефт остановил машину на Болгарской улице возле дома с проходным двором и приказал шоферу ждать. Через второй двор он вышел на Малороссийскую и условно постучал в дверь квартиры Семашко.
Зинаида работала на железной дороге, но в этот день, сказавшись больной, осталась дома и ждала Николая.
Кроме них, в квартире никого не было, но, соблюдая предосторожность, они спустились в подвал и закрыли за собой творило.
Николай зажег лампу, включил радиоприемник. Наушники они поделили, блокноты и карандаши были у каждого.
Наступила томительная пауза.
Боясь пошевельнуться, они вслушивались в наушники, в их тихо шелестящий звук, словно шум морской раковины. Но вот лампы нагрелись, послышался мелодичный звон, легкое комариное пение, затем все явственнее, все слышнее проступал в наушниках отсчет метронома… Тик-так… Тик-так… Тик-так… Тик-так… Эти позывные станции, этот счет времени вызывал ответный взволнованный стук сердца.
Николай посмотрел на часы: было без пяти двенадцать.
Вдруг они услышали звонкий хлопок, точно где-то там, в штурманской рубке страны, сняли с переговорной трубы крышку… И долгожданно и неожиданно прозвучал взволнованный голос Левитана:
– В двенадцать часов по московскому времени слушайте важное сообщение Советского информбюро!..
Придерживая левой рукой наушник, правой Зина прижимала карандаш острием к бумаге, чтобы унять в руке дрожь ожидания.
Николай видел ее состояние, но и он не мог совладать со своими нервами, сердце билось учащенно и тревожно.
– В двенадцать часов по московскому времени слушайте важное сообщение Советского информбюро! – снова, как и в первый раз, прозвучал голос Левитана, но казалось, что сказано это было по-новому, с какой-то особой, захватывающей значительностью…
И снова звучит метроном, настойчиво, неумолимо, как часы, ведущие время к неизбежному взрыву победы.
Стрелка часов на руке Гефта приближается к двенадцати…
В подвале душно, или душит волнение, пот заливает глаза.
В наушники врываются звуки кремлевской площади, неясный говор, гудки автомобилей, рокот моторов и шелест шин по брусчатке… Но вот все эти шумы поглощает первый аккорд курантов, празднично вступают трубы, льется песнь страны… С последним звуком гимна они снова слышат голос Левитана, удивительный голос, он звучит торжественно и задушевно:
– На днях наши войска, расположенные севернее и восточнее города Орла, после ряда контратак перешли в наступление против немецко-фашистских войск…
В ходе наступления наших войск разбиты немецкие 56, 262, 293-я пехотные, 5-я и 18-я танковые дивизии. Нанесено сильное поражение немецким 112, 208 и 211-й пехотным, 25-й и 36-й немецким мотодивизиям.
За три дня боев взято в плен более 2000 солдат и офицеров.
За это же время, по неполным данным, нашими войсками взяты следующие трофеи: танков – 40, орудий разного калибра – 210, минометов – 187, пулеметов – 99, складов разных – 26.
Уничтожено: танков – 109, самолетов – 294, орудий разного калибра – 47.
За три дня боев противник потерял только убитыми более 12 000 солдат и офицеров.
Наступление наших войск продолжается.
Выключив приемник, погасив лампу, они выбрались из подвала и сверили свои записи.
Чувство гордости и торжества, ощущение праздничной приподнятости не покидали их.
– Зина, надо сводку размножить, Пока у нас нет машинки, придется это делать от руки, печатными буквами. Да! – вспомнил он. – Если Артур дома, можешь его привлечь. Завтра же вечером сводка должна быть расклеена во всех районах города.
«Теперь понятно настроение Загнера и экстренное совещание в дирекции порта. Все ясно», – подумал он, направляясь к поджидавшей его машине.
В центре он приказал остановиться возле киоска и купил газету «Одесса», одну из двух частных газет, принадлежащую Георгию Г. Пыслару. Очень было интересно взглянуть на немецкую сводку с фронтов войны.
«Берлин (Бугпресс), – читает он. – Германское верховное командование из генеральной ставки фюрера в сводке от 15 июля 1943 года передает:..на участке у Орла все атаки большевиков отбиты с огромными потерями в живой силе и технике…» И все! Как будто советского наступления и не было!
«Фюрер, как всегда, лжет», – подумал Николай и перевернул страницу. Внимание его привлекла статья на третьей полосе: «Молебствие за упокой царя Николая II». Сотрудник господина Пыслару, не жалея сил, чтобы растрогать читателя, писал:
«…Стройно и задушевно пел хор церковных певчих. Будил окрест и замирал в голубой выси солнечного дня печальный перезвон колокольный. Впереди и по сторонам слышались сдержанные рыдания, виднелись слезы на юношеских лицах, словно росинки из белесых лепестков!!!»
«Барон Мюнхгаузен! – усмехнулся Николай. – Там и молодежи-то не было! А чтобы трубное сморкание в грязный платок господина Пустовойтова выдать за „росинки“ на юношеских лицах, надо быть действительно бароном Мюнхгаузеном!»
Войдя к себе в кабинет, Гефт вздрогнул от неожиданности: за столом сидел толстый совершенно лысый человек с вислыми украинскими усами.