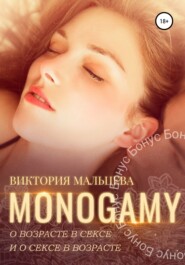По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Абсолют в моём сердце
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А чего он мокрый-то такой? – спрашиваю.
Отец молча трогает постель, затем аккуратно лоб Эштона:
– Похоже, это он так сильно вспотел, когда температура падать начала. Ты тихонько его разбуди, а я пойду принесу ему смену белья и майку какую-нибудь свою.
– Ладно, – соглашаюсь.
Алекс уходит, а я долго не решаюсь будить больного. Кладу ладонь на его лоб так же, как делал до этого отец, и нахожу его не то, что не горячим, а буквально ледяным! “Наверное, мама переборщила с таблетками, как всегда” – проносится мысль. А за ней другая: “Почему это так странно бьется моё сердце, когда я касаюсь его? ”
Эштон спит как убитый. Отец приносит бельё:
– Ещё не разбудила?
– Да он спит как лошадь! – деланно хмурюсь.
– Молодой организм! – отвечает Алекс с улыбкой. – В этом возрасте все парни хорошо спят и не страдают отсутствием аппетита!
– Эштон точно страдает! Смотри, какой худой!
Мы оба фиксируем свои взгляды на голой грудной клетке Эштона, которая ни разу не выглядит худой, а наоборот настолько широкой и сексуальной, что мне резко становится неловко.
– Да ничего он не худой! – уверенно возражает отец. – Я в его возрасте таким же был!
– Но он за столом почти ничего не ест, и дома у него еды вообще не было. У него явно проблемы с аппетитом, точно тебе говорю!
– Это у него наследственное, – Алекс закатывает глаза. – И ни разу не смертельное, раз уж это тело (тут он показывает на себя) ещё не умерло от истощения, – смеётся.
– Пап…
– Да, Соняш, спрашивай, ничего не бойся.
– Если б тебе было сейчас восемнадцать, ты бы выбрал меня?
Отец смотрит на меня некоторое время изучающе, затем уверенно отвечает:
– Ну, фактически я тебя и выбрал в своей реальной жизни, и мне как раз было восемнадцать лет, а твоей маме шестнадцать.
– Я не про маму! Она всем нравится! Я про себя! Ты бы заинтересовался такой девочкой как я? Когда был… молодым организмом?
Алекс долго смотрит в потолок, соображая.
– Ты про секс? – внезапно спрашивает.
Я тут же краснею, хотя все беседы о сексе и предохранении со мной только Алекс и проводит, и ни разу не мама.
– Я думаю, что секс – это неотъемлемая часть того интереса, о котором я говорю. Короче, ты бы в меня влюбился? Если бы тебе было сейчас восемнадцать?
– Однозначно влюбился бы. Но видишь ли, какая штука: в восемнадцать лет парни, даже если и влюбляются в одну, секса хотят с многими. С разными. И часто. Намного чаще, чем ты можешь себе представить.
Шок на моем лице так очевиден, что Алекс тут же добавляет:
– Но это проходит годам примерно… к двадцати пяти! Плюс-минус пару лет.
– Как же жить тогда? – спрашиваю, присаживаясь на постель Эштона. – Столько ждать! Это слишком долго!
Кажется, у меня даже сползла слеза по щеке.
– А ты не жди! Просто живи и радуйся каждому новому дню! – отвечает отец, обнимая меня. – Ладно, пойду у мамы спрошу, чего делать-то с ним… Она всё равно не спит.
Leona Lewis – Run
Сижу на постели Эштона и разглядываю его. Бесстыдно так разглядываю. Мне нравятся его плечи, руки, грудь – всё такое мужское уже… Не мощное, как у отца, а просто мужское. Местами нежное и утончённое, как шея, например, или его опущенные веки с длинными тёмными ресницами. Или губы… те самые, которые целовали меня во сне. И они были такими же нежными и любящими, как у Алекса…
Опускаюсь рядом с Эштоном на живот и лежу в неприличной близости от его лица, изучая каждую его черту, изгиб, линию. Он забавный! Так смешно сопит во сне своим простуженным носом, иногда шевелит губами. А губы у Эштона точь в точь как у Алекса – тот же контур и полнота, и верхняя чуть вздернута кверху. Внезапно он улыбается, и я обнаруживаю ещё один подарок отцовских генов – маленькую ямочку в носогубной складке и только с левой стороны… Стоп, или для него это правая?
Не знаю, как вообще такое безрассудство могло случиться с моей стороны, но я, ведомая каким-то древним инстинктом, тянусь ещё немного губами и касаюсь ими той самой, влекущей ямочки. Эштон тут же открывает глаза, его взгляд неосознанно скользит по моему лицу, затем гаснет, скрывшись под веками с девчачьими ресницами. Я буквально выдыхаю своё облегчение, но глаза Эштона тут же снова распахиваются, он смотрит некоторое время в мои, затем шёпотом спрашивает:
– Ты что делаешь?
Я тут же выпучиваю по-детски глаза:
– Проверяю, не помер ли ты!
– Что-о-о? – тянет уже в голос, видно спросонья туго соображает.
– Я говорю, что беспокоюсь, не отчалил ли ты в мир иной!
– А … почему ты в моей комнате?
– Ну, Эштон, ну что ты как маленький, вот ей Богу! Я ж переживаю! Переживательная я очень, понимаешь? – уверенно встаю с его постели и спокойно разваливаюсь в кресле.
– Спать не могла, всё переживала! Дай, думаю, проверю, как там Эштон? Может, он водички попить захотел, а принести некому! Захожу, а тут бледное бездыханное тело, вот я и испугалась, что ты того… Ну, сам понимаешь! Решила дыхание твоё проверить. Но ты не думай, до реанимационных мероприятий дело бы не дошло, нас хоть и обучали в школе, я ни черта не помню, кроме шуточек своих одноклассников. Им, знаешь ли, только дай искусственное дыхание поделать!
Эштон поднимается и садится на постели, простынь с пледом сползают ниже, открывая моему взору его совсем уже не юношеский живот:
– Ты смешная! – заявляет.
А я млею, разглядывая его оголенный торс. Не то слово млею, кажется, мои леди-органы задумали что-то нехорошее. Не то, чтоб я не видела мужчин в плавках, этого добра хватает и в бассейне, и на пляже, да что далеко ходить, летом что Алекс, что Лёша – оба без маек по дому расхаживают, хорошо ещё если в шортах, а то Лёшка может и за стол в плавках усесться. Но при виде полуоголённого, бледного, больного Эштона у меня впервые в жизни появляется странное ощущение в животе… Кажется, именно это и называют бабочками!
– А у тебя девчачьи ресницы! – сама не поняла, почему и зачем сообщила ему об этом, видно от созерцания его голой груди совсем мозги мои отшибло!
Эштон улыбается ещё шире:
– Я знаю. Ты не первая, кто говорит мне это.
Бабочки разом сдохли.
– О, Эштон, ты проснулся уже?! Очень хорошо, вставай-ка белье твоё поменяем, ой, и впрямь всё мокрое…