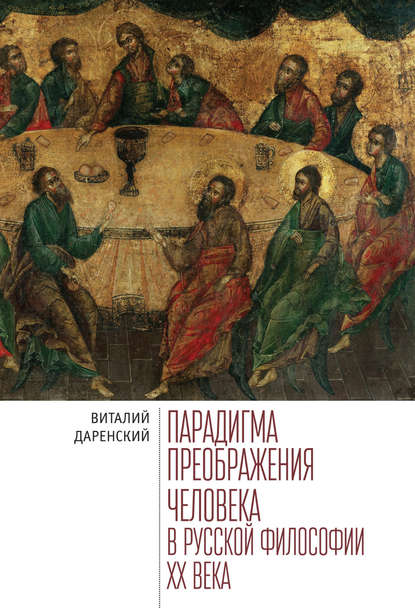По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Парадигма преображения человека в русской философии ХХ века
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Природы вековечная давильня
Соединяла смерть и бытие
В один клубок, но мысль была бессильна
Соединить два таинства ее.
Этот пра-смысл всего существующего в этом мире: жизнь – смерть – бессмертие, – поэтически может переживаться и как глубочайшая тайна человеческой души, являющая ее подлинную суть. Как у А. С. Пушкина:
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья -
Бессмертья, может быть, залог!
В этих строках – метафизическое открытие: упоение опасностью есть опыт бессмертия еще здесь, в рамках земного времени. В этом смысле – «залог», то есть не просто обещание, но уже и некая причастность, «якорь».
Помимо поэтических постижений бытийных первосмыслов, делающих поэзию и другие виды и жанры искусства особым «органом» философского мышления, этот «орган» незаменим и при философском постижении всего индивидуального, например, души народа («национального характера»). Примеров этого существует множество, но стоит привести лишь некоторые из тех, которые касаются России и русских. Вот весьма глубокое наблюдение В. О. Ключевского, включающее в себя и ценное обобщение:
«Пройдите любую галерею русской живописи и вдумайтесь в то впечатление, какое из нее выносите: весело оно или печально? Как будто немного весело и немного печально: это значит, что оно грустно… вспомните “Родину” Лермонтова. Личное чувство поэта само по себе, независимо от его поэтической обработки, не более как психологическое явление. Но если оно отвечает настроению народа, то поэзия, согретая этим чувством, становится явлением народной жизни, историческим фактом. Религиозное воспитание нашего народа придало этому настроению особую окраску, вывело его из области чувства и превратило в нравственное правило, в преданность судьбе, т. е. воле Божией. Это – русское настроение… На Западе знают и понимают эту резиньяцию; но там она – спорадическое явление личной жизни и не переживалась как народное настроение… Поэзия Лермонтова, освобождаясь от разочарования, навеянного жизнью светского общества, на последней ступени своего развития близко подошла к этому национально-религиозному настроению, и его грусть… становилась художественным выражением того стиха-молитвы, который служит формулой русского религиозного настроения: “Да будет воля твоя!”. Никакой христианский народ своим бытом, всею своею историей не прочувствовал этого стиха так глубоко, как русский»[104 - Ключевский В. О. Грусть (Памяти М. Ю. Лермонтова) // Ключевский В. О. Исторические портреты. М, 1991. С. 444.].
Другой пример – но уже более отстраненного и наукообразного наблюдения в рамках литературоведческого исследования – принадлежит Науму Берковскому. Сопоставляя русскую литературу с европейской в качестве неких обобщенных «идеальных типов», он пишет: «… в русской литературе это “открытие” живой души под панцирем цивилизованного быта совершается не в отношении одних только избранных, но в отношении каждого. Русская литература стремится уничтожить преграды между “я” и “я”, устранить дикость чужого “я” для нашего сознания, замкнутость его для нас во внешний образ, с которым могут быть только внешние сношения… В западной культуре чужое “я” – только гипотеза, более или менее правдоподобная, “доказательство” реальности чужого “я” стало одной из труднейших задач новой европейской философии… Русская литература добивается непосредственного восприятия чужой душевной жизни, она, где может, прорывает условности взаимного непонимания между людьми, сокращает пути, ведущие от одной души к другой, усиливает, поэтически преувеличивает всякий случай прямого общения, тем самым ознаменовывая его первоклассную важность… минута полного взаимопонимания – высшая минута, когда внутренней реальностью наделяются и этот человек, и его ближний, когда все человечество совлекает с себя обыденный быт с его формами, уединяющими людей, делающими их недоступными друг другу»[105 - Берковский Н. Я. Запад и русское своеобразие в литературе. Русский стиль, русская эстетика и оценка их на Западе // Берковский Н. Я. Мир, создаваемый литературой. М., 1989. С. 434–435.]. Этот фрагмент трактата показателен еще и тем, что он представляет собой синтез теоретической и художественной форм философствования.
Наконец, третий, разговорный жанр философии всегда осуществляет синкретическое понятийно-образное рассуждение с особо акцентированной интонационной доминантой, суггестивно передающего определенный авторский способ мировосприятия и мироосмысления. Обычно этот жанр осуществляется в диалогическом режиме. Диалогический режим делает суггестию дискретной, прерывающейся, и благодаря этому акцентирует взаимные границы личностных смысловых миров. Монологический режим (лекция) усиливает суггестивный поток «вживания», эмпатии, но вместе с тем и способствует внутреннему «вызреванию» этих границ у слушателя.
Правда, эта неоднозначность воздействия, внутренняя «диалектика» разговорного жанра непосредственно не сразу заметны – на первый план здесь выходят ощущение особого «шарма» говорящего, то есть суггестия и эмпатия в «чистом» виде. Вот, например, как вспоминает известный психолог В. А. Петровский своего не менее известного лектора, отчасти философа: «Тем, кому посчастливилось слушать яркие лекции Алексея Николаевича Леонтьева, памятен пример, который не был бы так доходчив, если бы не удивительная пластика жеста лектора. “Понимаете, – говорил он, как всегда, с подкупающей доверчивостью к понятливости слушателей, – рука движется, повторяя контуры предмета, и форма движения руки переходит в форму психического образа предмета, переходит в сознание”. И его длинная узкая ладонь легко скользила по краю стола»[106 - Петровский В. А. Психология неадаптивной активности. М., 1992. С. 20.]. Однако таков только первый этап разговора, пока еще не началась внутренняя работа сознания и рефлексии слушателя и собеседника. А на этом втором этапе как раз и начинается главное – игра границ смысла и границ «внутренних миров», игра перекрестных рефлексий. Особая, ничем не заменимая ценность разговорного жанра состоит в том, что здесь, по сравнению с медленным чтение текста, все это происходит стремительно, вовлекаясь в живую ткань речи. Этот жанр – искусство речевого жеста. Здесь интонирование речи – это интонирование смысла. Мелодия речи – это «жест мысли». А речь становится «сказом» – но не эпическим или лирическим, а драматическим, экзистенциально дискретным, вовлекающим слушателя в незавершенность смысла. Это именно тот случай, когда «наше слово уже и есть дело» (П. Я. Чаадаев). Дискретность, недосказанность, «оборванность» смысла здесь – это сознательная стратегия, инициирующая ответное смыслотворчество собеседника (слушателя). Смысл здесь является как со-бытийная опора сознания, а не как его уже готовый дискурсивный результат. Имеет место импровизация и карнавализация высказывания с целью акцентуации его смысловых границ. И за всем этим кроется тайное саоотрицание мысли, изначально предполагающей альтернативность.
Историческую типологию содержательности речевых жанров в свое время хорошо показал ?. М. Бахтин на материале театрального слова. Так, в период до Нового времени «в речах трагических (высоких) героев… преобладают образы космической топографии (земля, небо, ад, рай, жизнь, смерть, ангел, демон, стихии)… комната (дворец, улица и т. и.), в которой действует, жестикулирует герой, не бытовая комната (дворец, улица), ведь она вписана в оправу топографической сцены, она на земле, под нею ад, над ней небо, действие и жест, совершаясь в комнате, совершаются одновременно в топографически понятой вселенной, герой все время движется между небом и адом, между жизнью и смертью, у могилы»[107 - Бахтин ?. М. Дополнения и изменения к «Рабле» // Бахтин ?. М. Эпос и роман. СПб., 2000. С. 248–249.]. Это хронотоп речевого жеста, вписанного в базовую сакральную картину мира – и каждое слово здесь отсылает к этому неизбывному контексту.
Но начиная с Нового времени (граница – Шекспир, принадлежащий к обеим эпохам) слово и жест «становятся выражением индивидуальной души, ее внутренних глубин. Если раньше жест воспринимался, «читался» экстенсивно в отношении к конкретным (и зримым) топографическим пределам и полюсам мира, между которыми он был простерт, вытянут (он показывал на небо или на землю, или под землю – в преисподнюю…), если, читая его, наш глаз должен был двигаться от полюса к полюсу, от предела к пределу, чертя, вычерчивая топографическую линию, осевые координаты жеста и человека, локализуя действующего и жестикулирующего с его душою в целом мира, то теперь жест читается интенсивно, т. е. только в отношении к одной точке – самому говорящему, как более или менее глубокое выражение его индивидуальной души; самая же эта точка – говорящая жестом душа – не может быть локализована в целом мира, ибо нет (осевых) координат для ее локализации. Единственное направление жеста – к самому говорящему, место же самого говорящего в последнем целом мира непосредственно, зримо не определяется жестом (линия его ведет внутрь, в глубины глубин его индивидуальной души), если это последнее целое и предполагается, то оно опосредствовано сложным мыслительным процессом, рукой его не покажешь (что именно и делал топографический жест). Непосредственно и зримо локализуется и осмысливается жест и положение, место человека лишь в ближайшем целом – семейно-бытовом, жизненно-сюжетном, историческом; он в большинстве случаев далек от полюсов жизни и смерти (отодвинут от них обычным, благоустроенно-безопасным бытом штатского буржуазного человека…)»; эта «предельная глубина внутреннего, говоря словами Августина, internum aeternum человека» оказывается «закупоренной» в хронотопе пошлого быта[108 - Там же. С. 252–253.].
Соответственно, и речевой жест философа до Нового времени и после Нового времени конституирован таким же точно образом. Современный же философ уже находится в своеобразном хронотопическом «треугольнике» – между архаикой – т. е. перед лицом познания arche («между небом и адом, между жизнью и смертью, у могилы»); перед лицом своего внутреннего рефлективного пространства (перед своим internum aeternum – «внутренней вечностью») и перед жизненным миром того «пошлого быта», который деконструирует любые смыслы. И каждое его высказывание как-то ориентировано по отношению к каждому из этих «перед». Но в речевом жесте есть и еще одно фундаментальное измерение, о котором пишет ?. М. Бахтин: «Если мы проанализируем тональность слова, любого словесного образа, то мы всегда вскроем в нем, хотя бы и в приглушенной модерированной форме, тон мольбы-молитвы или хвалы-прославления. Это первая пара основных тонов (с ними связаны и соответствующие молитвенные или хвалебные стили и структурные первофеномены). Вторая пара: тон угрозы-устрашения и страха-смирения. Эти основные тона имеют многочисленнейшие вариации»[109 - Там же. С. 271–272.]. Эти базовые тональности всегда присутствуют и в философском слове – иногда явно, но чаще в превращенной форме. Но в форме живой речи их почти невозможно скрыть – и они сами по себе приобщают речь и сознание к близости arche.
В философской мысли вообще, но в жанре живой философской речи в особенности происходит процесс смыслосмещений и смыслоакцентуаций – смыслогенезис и продолжение созидания языка – лингвогенензис. Термины и обычные слова снова становятся неустоявшимися, возвращаются к своему живому опытному истоку, «расплавляются» в живую материю языка-потока, из которого они еще должны быть снова извлечены в «скульптурность» смысла и стиля. В этом отношении представляет интерес анализ С. С. Аверинцевым процесса смыслообразования на примере формирования философских категорий в диалогах Платона за счет «сдвига» в значениях слов обыденного языка. Здесь происходило обыгрывание традиционных значений до их полной неузнаваемости, которое сменялось «остужением» затем этих «перегретых» значений в логическом анализе, установлением фиксированного значения. С. С. Аверинцев сравнивает этот процесс с ковкой металла, когда разогрев заготовки до состояния, в котором ей можно придать любую форму, дополняется ее остужением, фиксацией этой новой формы: «как бытовое слово, так и термин – предметы малоподвижные, которые “знают свое место” и не дают сдвинуть себя с этого места. Но для рождения термина нужен как раз сдвиг… Между бытовым словом и философским термином непременно должна лежать зона, в которой слова освобождены от жесткой связи со своим жизненным “местом”, сдвинуты с него, вышли из своих берегов, из равенства себе. Иначе говоря, это зона метафоры. Ведь философский термин, если взглянуть на него с противоположного полюса, из сферы житейской речи, есть не что иное, как остановленная, фиксированная, застывшая метафора: бытовое слово, систематически употребляемое в несобственном смысле. Для обыденного сознания любое философское высказывание предстает с необходимостью как сплошная катахреза, словесный выверт, отклонение от “честного” лексического узуса – как игра слов… философское обращение с речью – это какое-то немыслимое соединение равно антипатичных крайностей: легкомысленного баловства словом, достойного шарлатанов, и педантского крючкотворство и крохоборства, достойного сутяг»[110 - Аверинцев С. С. Классическая греческая философия как явление историко-литературного ряда// Новое в современной классической филологии. М, 1979. С. 52; 66.]. Эта внутренняя парадоксальность, «диалектика» смысло- и терминотворчества в философской речи имеет место и поныне, хотя и не в столь ярких и фундаментальных проявлениях, как это было у Платона. Тем не менее, она сохраняется как некий внутренний «архетип» всякого живого философствования, особенно устного.
Сохраняется и базовая установка Платона по отношению к языку как таковому, которую С. С. Аверинцев определяет следующим образом: «Установка Платона по отношению к языковому обиходу критическая, и это сближает его с софистами. Но критику непосредственно данной, т. е. позднейшей, а значит, замутненной, традиции он ставит на службу поисков традиции подлинной, изначальной. Критика как реставрация, реставрация через критику – в этом суть платоновского подхода к языку, так же как в этом суть его подхода к мифу»[111 - Там же. С. 72.]. Философская речь во все времена вскрывала забытые смыслы слов и одновременно создавала новые – это и есть традиционность речи в буквальном смысле – т. е. ее передаваемость, но это передаваемость самой способности творчески работать с языком. В живой и талантливой философской речи всегда особенно отчетливо передается ее индивидуальный стиль, который обычно или весьма «сглаживается», или вообще почти исчезает в жанре теоретического трактата. Стиль – это интегральная характеристика речи. Стиль в самом глубоком смысле этого понятия – это не просто совокупность выразительных признаков (это уже вторично), но сам способ развития явления, его внутренняя живая тайна, неисчерпаемая в отдельных внешних признаках.
Сосуществование трех рассмотренных здесь жанров философствования – нормальный способ осуществления философии в культуре. Выбор какого-либо из них в качестве главного для себя – это личный выбор каждого, зависящий от многих мотивов. Инвариантность философского содержания состоит в особом способе смыслопостижения посредством познания arche, а полижанровость лишь подтверждает его универсальность.
Глава 2
Пост-оксидентальная парадигма в русской философии
Отечество Ваше занимает такое значительное место во всемирной истории, что, без сомнения, имеет перед собой еще более великое предназначение. Отдельные современные государства… уже более или менее достигли цели своего развития… у многих кульминационная точка уже оставлена позади, и положение их стало статическим. Россия же уже теперь, может быть, сильнейшая держава среди всех прочих, в лоне своем скрывает небывалые возможности развития своей интенсивной природы[112 - Гегель Г В. Ф. Письмо фон Икскюлю 28 ноября 1821 г. // Работы разных лет. Т. 2. М., 1973. С. 407.].
Гегель Г. В. Ф. Письмо фон Икскюлю 28 ноября 1821 г.
2.1. «Подвиг» русской философии
Особый интерес как для «инициационной» парадигмы историко-философских исследований, так и для антропологической рефлексии над спецификой и сущностными основаниями философского познания как такового, представляет история русской философии. Опыт «вживания» в русскую философскую традицию, в ее дух и стиль, свидетельствует, что ее «интеллектуальные конструкции» никогда не были самодовлеющими «системами», как на Западе, но в первую очередь, создавались как инструмент трансформации мышления и преображения самого человека. Подобно тому, как художественный мир А. С. Пушкина имеет особую «выпрямляющую способность»[113 - Палиевский П. В. Пушкин как человеческая задача русской литературы // Палиевский П. В. Литература и теория. М., 1979. С. 43.], исцеляющую личность, то же самое следует сказать и о русской философии. Как пишет А. А. Ермичёв, «анализ каждой из форм выражения национального в нашей философии повелительно указывает нам на первую и главную неизбывную особенность русского философского отношения к миру – оно наличествует в самой жизни не как теория, а как духовно-практическое ее начало, как мировоззрение»[114 - Ермичёв А. А. О «русскости» русской философии: в ответ В. Н. Сагатовскому // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2009. Том 10. Вып. 4. СПб., 2009. С. 112.]. Термин «духовно-практическое» здесь следует понимать вне его советско-марксистского контекста, а в смысле типа философствования, изначально направленного на преображение не только ума, но и всего человека, всей его жизни. Поэтому это ни в коем случае не аналог (по мнению некоторых авторов) европейской «философии жизни», которая онтологизировала стихийное, до-разумное начало в человеке, но как раз наоборот, философия одухотворения жизни и победы над стихиями.
Первым в русской философии активно использовать само выражение «преображение человека» как цель философии и культуры в целом стал использовать Н. Федоров. Н. А. Бердяев в «Русской идее» уже писал: «Основная тема русской мысли начала XX века есть тема о божественном космосе и космическом преображении, об энергиях Творца в творениях; тема о божественном в человеке, о творческом призвании человека… тема эсхатологическая»[115 - Бердяев Н А. Русская идея // О России и русской философской культуре. М, 1990. С. 260.]. Этот особый «духовно-практический» характер русской философии хорошо сформулировал еще Л. Толстой в своем письме Н. Страхову: «Вы предназначены к чисто философской деятельности. Я говорю чисто в смысле отрешенности от современности; но не говорю чисто в смысле отрешения от поэтического, религиозного объяснения вещей. Ибо философия чисто умственная есть уродливое западное произведение; а ни греки – Платон, ни Шопенгауэр, ни русские мыслители не понимали ее так»[116 - Толстой Л. Н. Письмо ?. Н. Страхову 13 сентября 1871 г. // Толстой Л. Н. Собр. соч. в 22-х томах. Т. 17. М, 1984. С. 698.].
Современные авторы В. Ш. Сабиров и О. С. Соина фактически повторяют эту же формулировку в более развернутом виде: «… магистральным духовно-теоретическим устремлением русских философов была идея спасения и преображения человечества, понимаемая в предельно широком контексте – от спасения личности в ее земном и последующем бытии – до преображения и спасения человеческой цивилизации в целом (что, согласитесь, звучит необычайно актуально в настоящее время, когда она столкнулась со множеством тяжелейших глобальных проблем, угрожающим самому ее существованию), породившая и особый, неповторимо своеобразный тип философствования»[117 - Сабиров В. Ш., Соина О. С. Стереотипы философского знания // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2015. Том 16. Вып. 4. С. 18–19.]. Б. В. Емельянов в своей фундаментальной истории русской философии пишет: «Главной национально окрашенной идеей был идеал христианской любви как связи между людьми в их стремлении к действительному преображению»[118 - Емельянов Б. В. История отечественной философии XI–XX веков. Екатеринбург, 2015. С. 9.]. (Во всех цитатах выделения мои. – Авт.). Принцип преображения иногда выводится из другого специфического принципа русской мысли – принципа цельности человека: «на основе идей онтологической (дух-душа-тело), гносеологической (единство веры и разума), нравственной (свобода и синергия) целостности человека отечественные мыслители решали вопросы преобразования человеческого бытия»[119 - Бондарева Я. В. Антропологические основы русской религиозной философии // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Философские науки, 2017. № 1. С. 80.]. В 2007 году в Воронеже прошла конференция «Русская философия о преображении человека и мира»[120 - См.: Русская философия о преображении человека и мира: матер. Межвуз. научной конференции / Под ред. В. П. Фетисова. Воронеж, 2007.], специально посвященная этой теме.
Следует, однако, отметить, что едва ли не наилучшая формулировка преображения человека посредством преображения ума была дана философом русского Зарубежья Н. Арсеньевым в его статье об И. Киреевском. Здесь он так характеризует этот принцип: «Искание мудрости, т. е. знания не поверхностного – внешнего – не схематического, а прикасающегося к самой сущности бытия, приводящего к ней, этой сущности бытия через преображение нас самих. Познание через изменение нас самих, через переход наш к новой, высшей ступени бытия, через рост наш, нас самих всеми органами нашего духовного бытия в новой жизни, не нашей только собственной, узкой, а в более широкой, подлинной, действительности, охватывающей и нас и творящей в нас нового человека. Это изменение нас самих, это преображение нас самих при встрече нас с Истиной, этот свободный рост наш всем существом нашим, в этой Истине, свободно покоряющей и преображающей нас, он называет “целостным знанием”, и только его одного готов признать подлинным познанием: т. е. то познание, которое нас самих, наше внутреннее “я”, все бытие приближает к Истине. Киреевскому как бы внутренне предносятся изумительные слова апостола Павла из его Второго Послания к Коринфянам: “Мы же с открытым лицом… взирая на Славу Господню, преображаемся в тот же образ, как от Господня Духа” (3, 18)»[121 - Арсеньев Н. О некоторых основных темах русской философии XIX века // Русская религиозно-философская мысль XX века. Сборник статей под ред. ?. П. Полторацкого. – Питтсбург, 1975. С. 20.]. А из определений самой философии, в наибольшей степени соответствующих «парадигме преображения», следует назвать те, которые были предложены И. Ильиным: «философия как духовное делание»[122 - См.: Ильин И. А. Собрание сочинений. Философия как духовное делание. – М., 2014.] и как «путь духовного обновления» (как общий принцип жизни).
Современный автор В. А. Ермаков предложил яркую и радикальную формулировку: «Интенция западной философии – преобразование сознания, русской – преображение. Исходя из религиозных корней, следует обозначить их как хилиастичность западной культуры и эсхатологичность русской»[123 - Ермаков В. А. Культура итога и культура смысла // Проблемы российского самосознания / Мат. 1-й Всеросс. конф. «Проблемы российского самосознания», 26–28 окт. 2006 г. / Ред. ?. Н. Громов и др. – М., 2007. С. 224.].
Теоретическая и практическая концептуализация специфики русской философии составляет одну из главных особенностей русской философской традиции едва ли не самого его возникновения. Первый русский «образ философии» был сформулирован еще И. В. Киреевским и с тех пор таких формулировок накопилось необозримое количество. Большинство из них достаточно тривиальны и крайне односторонни[124 - См. об этой проблеме: Емельянов Б. В., Русаков В. М. История русской философии: дефицит методологической культуры // Вестник РХГА 2006 Т. 7. Вып. 2. С. 155–170.], но есть и такие, которым действительно удавалось «схватить» первичную смысловую интенцию, определяющую саму «русскость» мышления, его «изначальный феномен» (Urph?nomen), по Гете. Лучше всего это удалось сделать классикам русской философии Серебряного века[125 - Ср.: «Гегель во вступлении к “Истории философии” жаловался, что из истории философии преимущественно черпают доказательства ничтожности этой науки. В нашей стране, в наше время оснований для подобных жалоб нет – из истории российской философии в основном черпаются доказательства ее величия все, что только можно сказать о специфике русской философии, уже сказано» / Ванчугов В. В. Очерк истории философии «самобытно-русской». – М., 1994. С. 9.]. Вместе с тем, само существование «русской философии» как особой оригинальной традиции, имеющей мировое значение, подобно русской классической литературе, не только постоянно ставится под вопрос скептически настроенными автора, но и вообще принадлежит к конституитивным моментам самой русской философии. Вопрос «Существует ли русская философия?»[126 - См.: Павлов А. Е Существует ли русская философия // Философская Россия. 2006, № 1. С. 128–138.] парадоксальным образом является для нас одним из «вечных» философских вопросов просто потому, что русская философия как особая уникальная традиция имеет перформативный характер – то есть, она существует постольку, поскольку мы способны ее понимать в ее сущности и особости, а главное, способны ее продолжать как живую традицию. Здесь действует принцип, сформулированный в словах Б. Пастернака, которые М. К. Мамардашвили и А. М. Пятигорский взяли в качестве эпиграфа к своей книге «Символ и сознание»: «Судьбы культуры в кавычках вновь, как когда-то, становятся делом выбора. Кончается все, чему дают кончиться… Возьмешься продолжать, и не кончится»[127 - Цит. по: Мамардашвили, М. К, Пятигорский, А. М. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке. М., 1997. С. 9.].
Тем самым, русская философия существует лишь постольку, поскольку есть русские философы, которые не дают ей закончиться. Это и является объективной предпосылкой ее непрерывности.
Находясь в «тени» классиков Серебряного века, в наше время не многие авторы рискуют предлагать свои концепции. Приведем лишь два примера.
Один из главных авторитетов в этой области профессор М. А. Маслин пишет следующее: «единство в многообразии можно считать главнейшей родовой чертой всей русской философии. Не говоря уже об огромном разнообразии мировоззренческих ладов русской мысли, начиная с различных проявлений философско-богословской и религиозно-философской мысли до разных вариантов идей просветительских, гуманистических, революционных, нельзя не заметить такую ее черту, как богатство характеров, судеб, темпераментов, талантов, которыми буквально наполнена русская мысль… При всем многоразличии оттенков духовно-психологического склада творцов русской мысли их объединяет “открытость миру”, творческое, неуемное любопытство ко всему миру, особенная возвышенная фундаментальность. Эта “всемирная любовь” выразилась в универсализме, нацеленности на решение мировых проблем, многие из которых остро современны: кризис культуры, универсальный гуманизм, поиски “правды-истины”, которая была бы и “правдой-справедливостью”, обоснование космического существования человечества, преодоление бессердечности, вражды и смерти и др.»[128 - Маслин M. К вопросу о единстве русской философии // Русская философия сегодня (идеи и направления): материалы этико-философского семинара им. Андрея Платонова, г. Воронеж, 12–13 мая 2008 г. / Под ред. В. П. Фетисова, В. В. Варавы. Воронеж, 2009. С. 29.].
Другой авторитетный автор, А. А. Корольков отмечает следующее: «Пристальное внимание к духовности, к духовной жизни личности и народа пронизывает все поиски русской мысли, в какой бы форме она ни выражала себя – в форме ли собственно рефлексии, в форме ли богословско-философских сочинений (как это часто было у Флоренского, Флоровского, Ильина, Булгакова и др.) или же в литературно-художественных жанрах. Духовно-нравственные искания высшего назначения человека, постижение абсолютных координат человеческого бытия – эти задачи и задания русской философии, определившиеся историческими особенностями ее культуры, становятся все более востребованными в мире, ибо разрастающийся утилитаризм, кризис идеальных оснований национальных культур побуждает искать пути сохранения духовности. Бессердечная культура, о гибели которой много писал И. А. Ильин, не может быть вытеснена без человеческих усилий, а усилия эти станут осмысленными, если взоры обратятся к антиподу бессердечной культуры – русской философии»[129 - Корольков А. А. Духовно-нравственный потенциал русской философии // Русская философия сегодня (идеи и направления): материалы этико-философского семинара им. Андрея Платонова, г. Воронеж, 12–13 мая 2008 г. / Под ред. В. П. Фетисова, В. В. Варавы. Воронеж, 2009. С. 14.].
К. Г. Исупов тонко и глубоко акцентирует экзистенциальную специфику русского философствования следующим образом: «Русская философия демонстрирует тип “поступающего сознания” (М. Бахтин), когда высказывание приравнивается к поступку. На пути к так понимаемой задаче философии нужно было преодолеть страх перед внутренней свободой. Характерный жест И. В. Лопухина (перевел «Систему природы» Гольбаха, чтобы тут же раскаяться, сжечь красиво переплетенную рукопись и написать опровержение) фиксирует рождение интеллектуальной отваги и испуг перед ней. Народное правдоискательство и одержимость истиной сделало ее поиск самодельным делом мыслителя. Бытовая незащищенность философа и его робость в мире прагматической “деловитости” объяснима самоисчерпанием энергии поступания в слове. Русская философия стала практикой приоритетного слова (т. е. слова, в первый раз говорящего последнюю правду), бесстрашного и по-юродски бесстыдного, звучащего неуместно посреди изолгавшегося мира. Это слово исповедальное и патетически аффектированное, воскрешающее интонации Нагорной проповеди, т. е. это слово мессианско-апостольского благовестительства»[130 - Исупов К. Г Русская философия (как тип творчества) // Universum: Вестник Герценовского университета. 1/2013. С. 219.].
Еще один, самый новый вариант выглядит так: «самобытный образ русской философской ментальности еще далек от законченности и теоретической достоверности. Философема Софии и софийного гносиса обладает бесспорным конститутивным преимуществом. Она определяет рапсодический стиль русского мировоззрения, его образотворческий акт и эсхатологический пафос; вокруг нее центрируется и на ее фоне в русском варианте развертывается традиционная антропокосмическая проблематика; через нее осуществляется сближение и софийное примирение непосредственного и опосредованного знания, теоретической и ценностной рациональности. Без историко-философского анализа истолкования символики Софии образ русской философской идентичности лишается как своего метафизического содержания, так и своей выразительности»[131 - Нижников С. А., Гребешев И. В. О сущности и специфике русской философии // Пространство и Время. 1–2 (23–24)72016. С. 166.].
Анализ приведенных цитат показывает, что они представляют собой попытки синтеза в единое целое отдельных определений специфики русской философии, которые уже были сформулированы авторами Серебряного века в почти идентичных выражениях. Сам этот синтез, безусловно, плодотворен, но он все-таки не выводит за рамки уже существующих концепций, авторы которых хорошо известны историкам русской философии.
Понятно, как пишет А. П. Козырев, что «понятие “русская философия” предполагает некое счетное множество определений и характеристик, по которым ее можно отличить как нечто цельное и завершенное, внесшее (или претендовавшее внести) свой уникальный вклад в мировую культуру»[132 - Козырев А. П. Русская философия: mode d’emploi // Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре. 2002. № 02/22. С. 107.]. В данном исследовании мы постараемся показать, что именно «парадигма преображения» является тем особым содержательным, мотивационным и стилистическим «ядром», которое и определяет ее специфику на фоне мировой философской традиции. Из этого «ядра» вытекают и другие содержательные концепции этой сущностной специфики. Так, например, одна из современных концепций целостности русской философской традиции, предложенная в диссертации А. А. Ермичёва «Русская философия как целое: Опыт историко-систематического построения» (1998), акцентирует такую специфически русскую «ориентацию мыслителей на мир как творчество, частью которого является сама философия, меняла содержание и принципы последней. Включенность философии в бытие-творчество приводила ее к самосознанию себя в качестве носительницы социальных и культурных смыслов»[133 - ЕрмичёвА. А. Русская философия как целое: Опыт историко-систематического построения. Дисс. докт. филос. наук в форме науч. докл. СПб., 1998. С. 14.]. Специфика русской философии как человекосозидающего, т. е. духовно-практического феномена, определяет и другие ее содержательные определения. Например, русский философ – это тот, кто мыслит себя как «носителя “жизненного начала целостного и конкретного синтетизма”»[134 - Ермичёв А. А. Имена и сюжеты русской философии. СПб., 2014. С. 412.]. Как утверждает И. И. Евлампиев, «центральное значение проблемы Абсолюта в русской философии почти не требует доказательств. Она концентрирует в себе почти все главные ее характерные черты»[135 - Евлампиев И. И. История русской метафизики в XIX–XX веках. Русская философия в поисках Абсолюта. Часть I. СПб., 2000. С. 7.]. Но такой «абсолютизм» мышления как раз и является следствием его «духовно-практической» устремленности. То же самое можно сказать и «соловьевской» традиции, которая определяет Всеединство как «главный внутренний опыт русской философии»[136 - См.: Щепановская Е. М. Всеединство как главный внутренний опыт русской философии // Русский космизм в пространстве современной культуры / Под ред. О. Д. Маслобоевой, 2016. С. 131–144.]; и о подходе ?. П. Ильина, определяющего «принцип самосознания» (т. е. преображения «Я») как «доминанту русской национальной философии»[137 - См.: Ильин Н. П. Трагедия русской философии. М., 2008.]. Для некоторых направлений русской философии, в частности, космизма, термин «преображение человека» уже прочно вошел в употребление[138 - См.: Башкова Н. В. Преображение человека в философии русского космизма. М., 2007.].
Особый аспект «преображения человека» раскрывается в уникальной русской «теургической эстетике», в которой развит эсхатологический подход к художественному творчеству, то есть «понимание художника как боговдохновляемого теурга, призванного выйти за пределы искусства и начать творить самую жизнь людей и всё бытие по эстетическим законам»[139 - Бычков В. В. Русская теургическая эстетика. М., 2007. С. 739.]. Здесь принцип преображения дан как принцип жизнетворчества. Русская эстетика преображения человека и мира («теургии») опирается на опыт русского искусства, в первую очередь, классической литературы. В частности, как отмечает Е. А. Гаричева в статье «Ф. М. Достоевский о преображении личности в романе “Бесы”», «романы Достоевского объединяет такая базисная структура русской литературы и православной культуры, как категория преображения личности… Конфликт добра и зла в героях Достоевского ведет их к поискам нравственного идеала – Христа. Ведущими мотивами произведений Достоевского являются покаяние, смирение и страдание»[140 - Гаричева Е. А. Ф. М. Достоевский о преображении личности в романе «Бесы» // Знание. Понимание. Умение. 2008. № 3. С. 150.]. В свою очередь, русский тип «преображающей» эстетики изначально укоренен в особой православной культуре мировосприятия[141 - См.: Рябов А. А. Проблема преображения человека в религиозно-философском наследии св. Тихона Задонского // Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. 2003. № 24. С. 43–45].
Формулировка сущности преображения человека, вполне нейтральная по отношению к разным мировоззренческим позициям, содержится в известной книге С. Л. Рубинштейна «Человек и мир». Автор пишет: «Основная этическая задача выступает, прежде всего, как основная онтологическая задача… борьба за высший уровень человеческого существования, за вершину человеческого бытия. Строительство высших уровней человеческой жизни есть борьба против всего, что снижает уровень человека»[142 - Рубинштейн С. Л. Человек и мир // Рубинштейн С. Л. проблемы общей психологии. М., 1976. С. 346.]. Такова инвариантная суть преображения человека, независимо от того, в рамках какой философской доктрины она происходит. Этот процесс духовно-практического преображения человека, который невозможен без философской рефлексии, хотя бы и стихийной, С. Л. Рубинштейн называет «вторым способом существования человека». Он характеризует его следующим образом: «Сознание выступает здесь как разрыв, как выход из полной поглощенности непосредственным процессом жизни для выработки нового отношения к ней, занятия позиции над ней… С этого момента каждый поступок человека приобретает характер философского суждения о жизни… С этого разрыва непосредственных связей жизни и их восстановления на новой основе начинается и в этом заключается второй способ существования человека»[143 - Там же. С. 348.].
Стилистически, то есть на уровне спонтанного впечатления от текстов ее «знаковых» авторов, русская философия всегда сразу узнаваема – так же, впрочем, как и русская классическая литература. Но если по отношению к русской литературе об этом эффекте узнавания писали многие, то тот факт, что оригинальная русская философия имеет точно такой же эффект, до сих пор недостаточно акцентировано. «“Кто-то из русских”, – немедленно скажет каждый, где бы ему ни встретилась эта цитата»[144 - Вульф В. Русская точка зрения // Писатели Англии о литературе XIX–XX вв. / Пер. с англ. М: Прогресс, 1981. С. 283.], – пишет, например, В. Вульф в эссе «Русская точка зрения». Таков эффект узнавания даже переводного текста одного из наших классиков. Опыт показывает, что чтение текстов русских философов имеет аналогичный эффект.
Суть этого «эффекта» очень похожа на последствия от встречи с определенным типом людей. Об этом типе писал композитор Г. Свиридов: «Есть люди, перед которыми раскрывается душа, расцветает, точит чувство, как источник. Подчас человек сам даже не знает, что у него в душе, чем полна она, и общение с ценным, хорошим, добрым человеком помогает твоей душе раскрыться, расцвести… Но есть люди… с каменной, безответной душой. Общение с ними, особенно длительное, – гибель. Они обладают способностью запирать твою душу на дьявольский замок»[145 - Свиридов Г. Музыка как судьба // Наш современник. 2003. № 8. С. 142–143.]. Отметим, что до настоящего времени об этом особом свойстве текстов русской философии писал фактически только один автор – В. П. Визгни. В частности, он отметил, что в русской философской традиции (в отличие от западной) особенно много душ, с которыми можно ощутить эффект резонанса, которые «захватывают, увлекают и вдохновляют», «которых чувствуешь», с которыми «стремишься собеседовать»[146 - Визгин В. П. Лица и сюжеты русской мысли. – М., 2016. С. 11.].
Поэтому в текстах русской философии происходит особо «выразительное самообнаружение духовных глубин человека»[147 - Там же. С. 161.].
Используя выражение великого композитора, можно также сказать, что подлинно русские философы – это те, при чтении которых «раскрывается душа». Естественно, что найдется множество скептиков, которые возразят, что это вовсе не дело философии «раскрывать души», что цель философии другая и т. д. Но на самом деле подобного рода возражения здесь не имеют отношения к сути вопроса, ведь речь идет совсем о другом. Речь идет о том, что и выполняя свои чисто гносеологические и мировоззренческие задачи, русская философия, помимо этого, имеет еще и особое человекосозидающее воздействие. Речь идет не только о каких-то чисто стилистических особенностях, но в первую очередь, о трансформации интенций самой философии. Кратко ее суть можно сформулировать следующим образом. Философ Запада понимает и сам смысл философского вопрошания, и цель любых философских построений в первую очередь как способ подчинения реальности. В том числе и вопросы «экзистенциального» типа также здесь понимаются как средства овладеть путем познавания своим собственным внутренним «миром», дабы последний не доставлял беспокойств. Мышление западного философа – это мышление властителя, который хочет все понять, познать и поставить под свой контроль; мышление самодостаточного «субъекта» (отметим, что сам термин «субъект» на самом деле так же непереводим на другие языки, как и китайское «дао», – и подобно ему предполагает вживание в соответствующее мироощущение).
Весьма ярким проявлением «отталкивания» русского философского ума от его западных протагонистов может служить следующее рассуждение С. Н. Булгакова: «особенностью философской и религиозной точки зрения Гегеля является то, что мышление совершенно адекватно истине, даже более, есть прямо самосознание истины: мысль о божестве, само божество и самосознание божества есть одно и то же… Очевидно, что философия, таким образом понятая, перестает уже быть философией, а становится богодейством, богобытием, богосознанием… Поразителен этот люциферический экстаз, которым по существу является пафос гегельянства: кроме самого Гегеля, кто может испытать это блаженство богосознания и богобытия, переживая его Логику?.. Мы имеем здесь пример крайнего доктринерства, приводящего к самоослеплению и самогипнозу, типичное состояние философической “прелести”… Мыслимость, мышление составляют, в глазах Гегеля, единственно подлинное бытия, вся же алогическая сторона бытия, весь его остаток сверх мышления, представляет собой ряд недоразумений, субъективизм или, как теперь сказали бы, психологизм… бытие для Гегеля подменяется и исчерпывается понятием бытия, а Бог мыслью о Боге. Вооруженный “диалектическим методом”, в котором якобы уловляется самая жизнь мышления, он превращает его в своего рода логическую магию, все связывающую, полагающую, снимающую, преодолевающую, и мнит в этой логической мистике, что ему доступно все…»[148 - Булгаков С. Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. – М, 1994. С. 75.]. Приведенная логика рассуждений позднее была заострена до крайности в суждении А. Ф. Лосева: «у Гегеля сатанизм мысли (логическим путем выводит Христа)»[149 - Бибихин В. В. Из рассказов А. Ф. Лосева // Начала. Религиозно-философский журнал. – М. 1993. № 2. С. 145.]. Откуда такая радикальная оценка и резкое отторжение самого способа гегелевского философствования?
У русского ума настоящий ужас вызывает невероятная гордыня гегелевского разума, в которой он сразу же чувствует то страшное богоборчество, которое невозможно замаскировать ни логической красотой гегелевской системы, ни тем фактом, что Гегель считал себя христианином. Хотя такое отношение к Гегелю встречалось и на Западе, в первую очередь, у С. Кьеркегора и Б. Бауэра[150 - См.: Бауэр Б. Трубный глас страшного суда над Гегелем: Пер. с нем. Изд. 2-е, испр. – М, 2010.], но именно для русской мысли оно является вполне органическим. Характерна попытка И. Ильина придать Гегелю «человеческое лицо» путем переистолкования его фактически в духе русской философии всеединства – но это лишь в очередной раз показывает «всеотзывчивость» русского ума, но самого Гегеля не изменит. Русский ум ужасается именно гегелевской претензии «естественного», непреображенного ума стать вровень с Умом божественным, фактически стать самой Софией – премудростью Божией. Для подлинно христианского ума в этом невозможно не усматривать «сатанизм мысли» в самом буквальном смысле слова. Впрочем, фетишизация непреображенного, «естественного» разума началась еще в схоластике и стала той внутренней парадигмой западной философии, которая с математической неизбежностью привела затем к материализму и «смерти философии».
В свою очередь, на Востоке человек, задающийся «предельными» вопросами, с самого начала хочет не подчинить себе мир путем познания, но наоборот, найти свое место в Универсуме. При этом всегда предполагается, во-первых, что Универсум никогда не сводится только к «этому», эмпирически данному миру; во-вторых, работа мыслителя понимается как особая аскеза, готовящая ум к высшему постижению Абсолюта, а то, что можно здесь назвать «познанием» с помощью самого ума, есть лишь «побочный продукт» этого процесса. Восточного мыслителя, строго говоря, нельзя назвать «философом», поскольку для «философа» мыслительный процесс всегда является самоценным и самодостаточным; а кроме того, каждый «философ» обязательно должен иметь «свое» учение, но для исконно восточного мыслителя, всегда пытающегося лишь передать незамутненное изначальное Знание, такая претензия выглядит лишь вредной бессмыслицей.
Исследователи философии Востока всегда отмечают ложь предрассудка о том, что Запад якобы исключительно рационален и научен, а Восток всегда лишь интуитивен и иррационален. Этот тезис ложен, поскольку «если уж говорить об иррационализме как некоей агрессивной мизологической противоразумной позиции, то он является всецело и исключительно плодом западной цивилизации», для которой поэтому всегда было характерно «противостояние веры и знания, науки и религии, философии и мистики, рационального и иррационального. Для Востока такая оппозиция неактуальна, а следовательно, неактуальны и иррационализм и фидеизм, порожденные сугубо европейскими культурными и религиозными паттернами»[151 - Торчинов Е. Л. Пути философии Востока и Запада: познание запредельного. – СПб., 2007. С. 454.].
Чем же специфичен на этом фоне русский философский ум, взятый как некое обобщение, абстрагированное от тех или иных влияний? Конечно, он тоже никогда не лишен ни познавательных, ни аскетических устремлений: а в предельных случаях среди русских философов бывают чистые «западный» и «восточный» типы. Но главный движущий мотив русского философского ума – не в этом. На наш взгляд, он состоит в неизбывной тревоге совести, не позволяющей уму успокаиваться ни на каких самых блестящих доктринах об устройстве мироздания, ни даже на жизненном приближении к откровенной Истине, – но все время заставляющей ощущать несовершенство своих идей и «убеждений», наконец, фундаментальную порочность общего ощущения своей «правоты». Поэтому в подлинно русской философии невозможны ни «системостроители» типа Гегеля, ни столь же самоуверенные «критицисты» типа Канта. А сама категория совести здесь является не только моральной, но не в меньшей степени и категорией гносеологической, определяющей то, что вообще имеет смысл называть «философским познанием».
Эта сущностная специфика русского философствования является выражением его базовой интенции на преображение ума и всего строя человеческого бытия. Если для западного мыслителя базовым является императив «самореализации», то есть максимального раскрытия своих индивидуальных особенностей понимания, для восточного – наоборот, императив преодоления своей индивидуальной ограниченности; то для русского философа его индивидуальность является лишь «стартовой площадкой» для преображения ума и души в горизонте вечного Идеала. По-видимому, именно таким образом следует определить особый «пра-феномен» (Urph nomen, по Гете) специфической традиции русской философии.
Такой характер русского типа и стиля философствования, который мы определяем как «духовно-практический», хорошо сформулировал в свое время Ф. А. Степун: «Сравнительно позднее окрепшая на Западе в борьбе с идеалистической метафизикой, экзистенциальная философия была в России искони единственною формою серьезного философствования. Если отвлечься от некоторых, в общем малооригинальных явлений университетского философствования, то можно будет сказать, что для русского мыслителя, как и русского человека вообще, философствовать всегда значило по правде и справедливости устраивать жизнь, нудиться Царствием Небесным, что и придавало всем философским прениям тот серьезный, существенный и духовно напряженный характер, которого мне часто не хватало в умственной жизни Западной Европы»[152 - Степун Ф. Бывшее и не сбывшееся. – СПб., 1995. С. 205.]. Такое определение специфики русской философии популярно и в наше время[153 - Ср.: «критический настрой русской философии по отношению к сложившимся в истории традициям есть выражение ее постоянного тяготения к экзистенциальному философствованию, это позволяет утверждать, что русская философия с самого своего зарождения являлась философией экзистенциального типа» / Евлампиев И. И. О «русском стиле» в истории философии // Философский век. Альманах. Вып. 24. История философии как философия. Часть 1. / Отв. ред. Т. В. Артемьева, М. И. Микешин. – СПб., 2003. С. 204.]. Кроме того, если, по определению Н. О. Лосского, «персонализм является, по всей вероятности, наиболее характерной чертой русской философии»[154 - Лосский Н. О. История русской философии. М, 1991. С. 516.], – то русский персонализм отличается от западного тем, что, во-первых, в русском нет никакого смешения между личностью и «индивидуальностью» – скорее эти понятия здесь мыслятся как прямо противоположные; во-вторых, в русском сама личность не мыслится как нечто данное, но как принцип преображения любой человеческой данности.