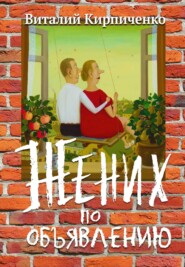По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Над окошком месяц
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– У нас там всего много. Вишни, сливы, яблоки, груши растут везде, – говорил он, когда удавалась свободная минута во время обеда. В словах его слышалась грусть.
Получив разрешение, почти все литовцы уехали на родину, остались единицы.
Часто можно услышать, как плохо относились к детям врагов народа; не верить этому я не имею права, но мои сверстники – литовцы и украинцы из сосланных – были равноправными со всеми, их не унижали учителя, не презирали товарищи по школе. Если случались драки, то совсем не по политическим убеждениям, а по законам природы, данным нам свыше.
Преподавателем географии был литовец Людвиг Людвигович. Бледный и тощий, неисправимый интеллигент, не мог он управлять разнузданной массой безотцовщины. Даже его лирическое пафосное вступление на первом уроке не привлекло особого внимания детворы к любимому им предмету. Хуже того, копируя картавость географа, то тут, то там слышалось высокопарное:
От финских хвадных скав до пхаменной Ковхиды…!
Примером ему мог бы послужить наш, отечественный, воспитатель и преподаватель по физике – Павел Иванович. У него без проблем проходили занятия. Он никогда не жаловался директору и родителям на нерадивых и непослушных учеников. Расшалившихся бесенят он брал огромной рукой за воротник, другой – за штаны там, где они раздваивались и сходились одновременно, и, совершенно не задумываясь, чем открывать будет нарушитель дисциплины дверь, вышвыривал его в коридор. У меня лично шишка сходила недели две.
Этой необходимой методикой работы с подрастающим поколением совершенно не владел интеллигентный до мозга костей географ Людвиг Людвигович.
По коридорам и кабинетам школы бегал шустрый, непривычно длинноволосый, литовец с аккордеоном. За фанатичную любовь к бродяжьему сибирскому фольклору ему присвоили новое имя – Бродяга. А когда он однажды, увлёкшись дирижированием созданного им хора, свалился со сцены, то и знаменитую песню тут же переиначили. Она зазвучала так:
Бродяга со сцены свалился,
В глубокую яму упал,
Ругался, божился, крестился,
Несчастную жизнь проклинал…
Аккордеон у него был – загляденье! Перламутр и никель! Блеск и шик! Ни у кого ничего подобного в деревне не было. Были задёрганные чубатыми гармонистами две гармошки, два патефона были, а аккордеона – ни одного. Патефон был в нашем краю у Сыроватских. В погожий летний вечер они раскрывали окно и ставили на подоконник чудо-ящик. Бодрым голосом сообщали миру счастливые певцы, как теперь хорошо живут в колхозной деревне, по которой шагают торопливые столбы электропередач. Какими они ни были торопливыми, но до нас так и не дошагали. Так и сидели с керосиновыми лампами до шестидесятых годов.
Нам нравилось переиначивать тексты песен. В песенке фронтового шофёра мы пели: «Крепче за барана держись, шофёр!» Исполнителю, певшему разухабисто: «Бывали дни весёлые, гулял я молодец!» – мы подпевали: «Бывали дни весёлые, по сорок дней не ел, не то, что было нечего, а просто не хотел». В песне со словами страдальца: «Зачем ты, безумная, губишь того, кто увлёкся тобой?..» – мы «безумную» заменили на «беззубую» и получилось, как нам казалось, очень даже смешно. А про Семёновну, ужас, что пели!
И голодно было, и тяжела работа, а выдумки и проказы нами не забывались. Одна из них была такая: на пути к заимке, в лесочке из тонких осинок и берёзок, мы пересекали ручей. Был он не глубок и не широк, однако же был. Переезжая через этот ручей верхом, мы с гиканьем и свистом понукали лошадей, хлестали их плетью, шпыняли босыми и твёрдыми, как голыш, пятками – в общем, делали всё, чтобы лошади, вступив в ручей, сами, не дожидаясь команды, рвали копыта. Мы умирали со смеху, видя, как новички валились в ручей от неожиданного проявления прыти лошадями, а косматая упрямица деда Моргуна носилась по кустам, стараясь избавиться от не совсем лихого наездника. Были и другие проказы, но о них лучше не вспоминать. Стыдно.
В четырнадцать лет я уже личность: я – прицепщик на тракторе, почти номенклатурная особа в масштабах колхоза. Мой начальник, с кривой ногой тракторист Василий Ершов, обдуваемый вольными байкальскими ветрами, спит сном младенца в высокой сочной траве, от его лёгкого дыхания колышутся яркие полевые цветы и трепещут бабочки… Я, управляя рычащей железякой, тоже не упускаю прекрасного. Я уже не я, не замурзанный прицепщик, а бравый лейтенант-танкист – неотразимо красив и храбр, ору во всё горло: «Броня крепка и танки наши быстры!» На этой должности и закатилась моя колхозная карьера. После школы я поступил в военное училище.
Из тех детских лет помню, как провожали на войну мужиков. Днём и ночью не стихали вопли баб, крики пьяных мужиков. Помню, как отхаживали мою бабушку, потерявшую за полгода двух сыновей, – Мишу и Толю. Ещё через полгода был убит её зять Гриша, на руках у тёти Юли остались пятеро, мал-мала меньше: старшему, Володьке, не было и десяти, а младшей, Томке, так и совсем ничего…
Старого почтальона боялись, как самого злого колдуна, и ждали с нетерпением его появления на мостике, отделявшем деревню от почты. После его неспешного прохода вдоль улицы, то тут, то там взрывался бабий вой, от которого подымались волосы на голове, ещё больнее было слышать писклявый детский плач. Вскоре старик отказался от этой невыносимой для него должности, его заменила девочка-подросток.
Кого только война не стронула с привычных мест, куда только не бежали люди, спасаясь от бомб, от голода, от смерти…Кто только не забредал в далёкую Сибирь, такую же голодную, как все уголки России, но к тому же ещё и холодную…
Однажды в нашу избушку влезло десятка два цыган. Попросились двое на часок – обогреть безногого старика, – а потянулась за ними нескончаемая вереница из существ всех полов, возрастов и размеров. Они грелись неделю, украдкой опустошая наши более чем скромные закрома. Наука не пошла впрок сердобольной маме, и ещё один табор вскоре раскинул свои перины и одеяла в наших «хоромах». Тут уж маму упросила её землячка, учительница из её села. Она бросила и школу, и деревню, и старенькую мать, и ушла с табором. У её господина была седая борода и блестящие сапоги, которые учительница снимала с его ног перед сном, она же и ноги ему мыла.
Ночевал у нас какой-то пилигрим. Седой, длинноволосый, в дырявом кожушке. Представился учителем, чем вызвал нескрываемый смех у всех присутствующих. Для проверки дали задачку из учебника Лизы про трубы, через которые втекает и вытекает вода; её, из всех самых умных наших близких и знакомых, никто решить не мог, а пилигрим взял и решил в два счёта, чем заслужил немалое уважение. Его даже накормили картошкой в мундире.
Приютили на время жестоких морозов молодую женщину с грудным ребёнком.
Поздним вечером, всё при той же холодной Луне, попросилась она переночевать, а мама отказала, потому что наш теремок был заполнен до отказа, посоветовала поискать приюта в других домах. Женщина ушла, а выскочившая немного погодя на улицу Лиза, увидела её за углом нашей избушки, плачущей над своим ребёнком. Её завели в дом, нашли самое тёплое местечко. Когда она сняла с себя многочисленные платки и одёжки, то превратилась в девчушку, а распеленав ребёнка, вскоре обо всём забыла и по-детски смеялась, забавляя его.
Ходил по селу невысокий, плотного сложения человек с армянской фамилией Хачикьян. Он примечателен был тем, что мог за один раз, на спор, да и без спора тоже, съесть ведро яиц, сваренных вкрутую, или ведро картошки. Ему было всё равно, что есть, лишь бы есть. Ходил он без рубашки, в расхристанной телогрейке, грудь и шея были цвета бурака.
В нашем доме обогревались будущие солдаты, проходившие подготовку при военкомате. Я с интересом наблюдал за ними издали; рассматривая винтовки и гранаты, сожалел, что не вышел годами. Потом узнавал, что тот или иной из них уже убит или ранен, и это не было диковиной, к этому привыкали.
Пошёл я в школу в неполные восемь лет. Солнечным сентябрьским днём побежал, конечно же, как и все мои сверстники, босиком туда, где всё таинственно и интересно. Ранняя осенняя пора в Сибири – прекрасное время. Все деревья в жёлтых, ярко-оранжевых, красных цветах, всё горит-переливается. Воздух тих и кристально прозрачен, дышишь и не надышишься. Голоса слышны далеко, они тоже окрашены всеми диапазонами звучания. И учиться интересно, и в школу спешу поутру с лёгким, радостным чувством.
«Наука» давалась мне легко, очевидно, потому, что я уже кое-чему научился у сестры, да и интересно было открывать для себя каждый раз что-то новое. Одно не устраивало мою бедную первую учительницу Сказальскую Валентину Владимировну – я держал карандаш в левой руке, привык к этому настолько, что переучивать меня было если не бесполезно, то весьма трудно, это уж точно. С её молчаливого согласия, появившегося не вдруг и не сразу, я и теперь пишу левой. Да и откуда мне быть правшой, если оба мои деда левши! Нет, не только этим я был известен классу и, ещё раз скажу, бедной моей учительнице. Пусть простит она меня за сорванные уроки, за непослушание, непоседливость… Я не был злостным нарушителем дисциплины, но иногда вдруг во мне просыпалось такое неуёмное желание рассмешить класс, что никакие меры на меня не действовали. Была даже «тройка» за поведение, чего до меня не знала школа с момента её основания. Почему я так выпендривался, только повзрослев, понял: мне крайне необходимо было привлечь к себе внимание сестрёнок из блокадного Ленинграда – Иры и Тани Балиных. Их мама была врачом в нашей больнице, а девочки-погодки учились со мной. Ира, тихая, светленькая девочка, сидела со мной за одной партой, и чтобы мои друзья-забияки не дразнили нас постыдными «жених и невеста», я изредка, чтобы все видели, как я далёк от справедливых подозрений, подёргивал её за косичку и в то же время проклинал себя за такую подлость.
Таня, Татка, как её все звали, была полной противоположностью сестрёнки. Она была кареглазая, чёрные волосы были всегда взъерошены, пуговицы у пальтишка вырваны с мясом, а где был хлястик, зияли две большие дырки, оттуда торчала клоками вата. Глаза её, как две огромные сливы, влажно блестели и выдавали её постоянное желание совершить что-то необычное. От неё можно было всего ожидать: и подножки в самом неподходящем месте, и удара по голове тяжёлой сумкой с чернильницей-непроливашкой, перестающей быть в этот момент непроливашкой.
По-видимому, мне очень хотелось им тогда понравиться. Но закончилась блокада, и Балины уехали в свой город, с тех пор я ничего о них не знаю. Просто интересно, что с этой Татки получилось? Из этого бесёнка всё могло выйти. У Ирины, уверен, всё должно быть хорошо. Во всяком случае, мне так хочется.
В школу ходили в любой мороз, и даже перескочивший сорокаградусную шкалу, и в близкий к пятидесяти. Причина здесь может быть и в том, что термометров не было ни у кого, и люди говорили: сегодня холодно (это около сорока градусов), сегодня страшно холодно, дым столбами стоит (это за сорок), невозможно холодно, топор от удара по мёрзлой чурке разлетелся на куски (около или за пятьдесят). Не пускали малышню ни в школу, ни на речку покататься на салазках в поющие и стонущие метели. «Не хватало ещё, чтобы унесло тебя куда-то да завалило снегом, – говорили старшие, – в каком тогда сугробе тебя искать?» В классах было так холодно, что сидели одетые, в рукавицах и шапках, писали карандашами, чернила замерзали в ледышки.
Вспоминается Новый 1944-й, мой первый учебный год. Ёлка в школе. Идёт представление. Все одеты в самое лучшее, самое тёплое. Мы знаем, что после праздничного концерта всем будут давать по кусочку коврижки, потому и терпеливо мёрзнем в холодном зале. Нас развлекают девочки в белых марлевых платьицах, они изображают белых лебедей, но очень уж синие они от холода эти лебеди.
Маруська Толстикова, моя соседка, тоже в марлевом платье, только ещё с деревянным кинжалом, спела песенку о коварстве и любви с такими словами:
Почему ты не пришёл, когда я велела,
До двенадцати часов лампочка горела?
При этом она смешно прыгала со своим страшным деревянным кинжалом около «изменщика» с приклеенными криво огромными чёрными усами.
Появились в нашем селе чужие люди, которых называли предателями. Они были под присмотром милиции, и, пожалуй, никто из местных не знал, за что они сосланы, может, потому и относились к ним, как ко всем остальным, без ненависти и презрения. К тому ж Сибирь и без предателей была полна людей с неясным прошлым.
Да и я там не должен был родиться, а где-нибудь в Гродно, Могилёве или на Украине. Оттуда приехали мои деды, а отец с мамой родились уже в Сибири. Их историю я просто обязан поведать.
Они жили в разных деревнях, стоящих друг от друга в трёх вёрстах. Отец родился в Толстовке, там обосновались переселенцы по столыпинской реформе из Могилёвщины, а мама из Тургеневки, там осели Гродненцы и Брестчане.
Воду брали из одной проруби. Кстати, воду этого источника, говорят, признали уникальной, скоро будут продавать в бутылках. И вот однажды там встретились пятнадцатилетняя Ганна, по метрике – Она, и шестнадцатилетний Яков. Ганна (Она) уронила в прорубь ведро, а Яков вынул его, дал ей свои рукавицы согреть окоченевшие руки. Через год поженились. За долгую совместную жизнь народили детей – половина сероглазых блондинов – в отца, половина чернявых, кареглазых – в мать.
Отец хлебнул горя сполна. Вскоре, после трагической гибели его отца (случайный выстрел), мать ввела в дом примака, который был младше её лет на десять, а то и более. До того примак ходил по деревням, гнал дёготь, жёг уголь, плёл короба, продавал это мужикам – тем и жил. Войдя в дом к Наталке, которая в нём души не чаяла и всё боялась, чтобы не покинул он её (обычная беда и забота женщин, прикормивших юнцов), примак забросил своё прежнее занятие и усиленно принялся проматывать крепкое недавно хозяйство. Активной помощницей ему в этом неблагородном занятии была и сама хозяйка. Скоро от хозяйства остались рожки да ножки. Но на этом не остановился примак. Он стал проявлять чудеса садизма над детьми, и отцу моему грозила смерть. Знали, конечно, об этом и братья покойного Степана, мяли бока не раз примаку, но исправить его было невозможно. И вот однажды, ещё до рассвета, в дом к Наталке пришёл дед моего отца и забрал его к себе, в своё большое семейство. Сделал он это после приснившегося ему сна, в котором покойный сын Степан умолял забрать мальчишку к себе, иначе погубят его эти ироды.
Бабушки были полной противоположностью одна другой. Высокая, худая, прямая, немногословная – мамина мама – баба Мартося, девичья её фамилия Гуревская. Она недолюбливала бабу Наталку и называла её мужичкой. У бабы Мартоси – чистота и порядок, у бабы Наталки – неимоверный кавардак. Но зато какая у неё подвижность! Кроме всего, Наталка врачевала во всей округе заговорами да травами. Это у неё получалось превосходно. Я сам видел, как однажды к ней прибежала молодица, принесла не плачущего, а разрывающегося на части от крика грудного ребёнка. Со слезами обречённо отдала его Наталке, а через минуту он уже спал, сладко почмокивая губами.
Конкурентов у бабы Наталки, практически, не было. Была ещё одна в деревне, которой казалось, что тоже может врачевать, но её всерьёз не принимали. Звали её, как и всех баб, по имени мужа – Пануреиха. Ростом она была под два метра, со свирепым выражением лица и огромными разлапистыми руками и ногами.
Как-то, когда не было в деревне главного врачевателя, Наталки, в деревню приехал на двухколёсной телеге – торге – молодой бурят, у него что-то со спиной стряслось. Принимала его Пануреиха. Узнав, в чём его беда, коротко рявкнула, показав на порог: «Лягай, бусурман!» Бурят интуитивно подчинился. «Мордой до горы!» – уточнила позу Пануреиха. Опять непонятно, каким образом бурят правильно понял команду. Взяв топор, поблизости стоявший, Пануреиха выдала очередную команду дрожащему уже от могильного ужаса буряту: «Путай!», что в переводе значило: «Спрашивай». Бурят этого, почти иностранного, слова не знал и на своё горе решил уточнить. «Куво, баушка, путай?» – заискивающе переспросил он. В ответ Пануреиха, вскинув к чёрному задымлённому потолку топор, зарычала, как лев в пустыне: «Путай, каб Пярун табе забив!»
Больного бурята, забывшего все свои болезни, как ветром унесло. Он убежал в свой улус напрямик через лес, оставив у ворот коня с торгой.
Трудно было ему, привычному к безобидным глухим звукам бубна и пляскам шамана у костра, понять языческий ритуал страшной в своей решимости старухи в чёрном и с топором в руках. Будь на ней хотя бы одна яркая ленточка, а в руках балалайка или дудочка, тогда бы всё проходило иначе.
К вечеру пришёл кривоногий старик с редкой сивой бородёнкой, не сказав никому слова, отвязал от изгороди коня, сел в торгу и уехал, посвистывая не смазанными колёсами.
Как-то и Наталка так занедужила, что без больницы ей было не обойтись. Через три дня её оттуда выписали. Врачи не могли поступить иначе, потому что затронута была их профессиональная честь.
Прознав о новом местонахождении Наталки, пуще прежнего устремились больные, особенно мамаши с детьми, к ней в палату. Врачи были взбешены!
– Та не я их зову, яны сами идуть! – оправдывалась Наталка. – Вон и врачиха ваша, Вольга Мироновна, свого брыластого прино?сила!
У бабы Мартоси отец был офицером польской армии, ходил в сюртуке и галстуке, любил играть на скрипке. А у бабы Натальи кто был отец, не знаю, известно, что в Киеве она работала служанкой у своего дяди-прокурора, знать, не последний человек был и её отец. От дяди-прокурора, очевидно, переняла Наталка такие качества, как честность и справедливость. В то время судьи и прокуроры в большинстве были таковыми. Она была чрезвычайно бойкой на язык, прозвища, сказанные ею мимоходом, приклеивались раз и навсегда. Жила она бедно и никому никогда не завидовала. От примака остались два сына, а сам он погиб на войне в панфиловской дивизии под Москвой.
Мой дед, по отцу Степан, был страстный охотник, это его и погубило в тридцать три года. До этого был ранен в ногу на германской войне, побывал в лапах медведя, еле выжил, и тут случайный выстрел в живот. Был грамотный для той поры настолько, что ему предлагали место писаря в администрации Иркутска.
Дед Трофим, отец мамы, тоже был грамотный, но он не был, к сожалению, охотником, а целиком предан столярному и плотницкому делу. Ветряк до сих пор стоит на пригорке Тургеневки, как памятник деду, сработанный его же руками. Когда-то, при царе ещё, был моряком. Его форму, хранимую бабой Мартосей, как зеницу ока, во время гражданской войны забрали белые, может быть, и красные; мыкались они по Сибири долго, наседая поочерёдно друг на друга.
Получив разрешение, почти все литовцы уехали на родину, остались единицы.
Часто можно услышать, как плохо относились к детям врагов народа; не верить этому я не имею права, но мои сверстники – литовцы и украинцы из сосланных – были равноправными со всеми, их не унижали учителя, не презирали товарищи по школе. Если случались драки, то совсем не по политическим убеждениям, а по законам природы, данным нам свыше.
Преподавателем географии был литовец Людвиг Людвигович. Бледный и тощий, неисправимый интеллигент, не мог он управлять разнузданной массой безотцовщины. Даже его лирическое пафосное вступление на первом уроке не привлекло особого внимания детворы к любимому им предмету. Хуже того, копируя картавость географа, то тут, то там слышалось высокопарное:
От финских хвадных скав до пхаменной Ковхиды…!
Примером ему мог бы послужить наш, отечественный, воспитатель и преподаватель по физике – Павел Иванович. У него без проблем проходили занятия. Он никогда не жаловался директору и родителям на нерадивых и непослушных учеников. Расшалившихся бесенят он брал огромной рукой за воротник, другой – за штаны там, где они раздваивались и сходились одновременно, и, совершенно не задумываясь, чем открывать будет нарушитель дисциплины дверь, вышвыривал его в коридор. У меня лично шишка сходила недели две.
Этой необходимой методикой работы с подрастающим поколением совершенно не владел интеллигентный до мозга костей географ Людвиг Людвигович.
По коридорам и кабинетам школы бегал шустрый, непривычно длинноволосый, литовец с аккордеоном. За фанатичную любовь к бродяжьему сибирскому фольклору ему присвоили новое имя – Бродяга. А когда он однажды, увлёкшись дирижированием созданного им хора, свалился со сцены, то и знаменитую песню тут же переиначили. Она зазвучала так:
Бродяга со сцены свалился,
В глубокую яму упал,
Ругался, божился, крестился,
Несчастную жизнь проклинал…
Аккордеон у него был – загляденье! Перламутр и никель! Блеск и шик! Ни у кого ничего подобного в деревне не было. Были задёрганные чубатыми гармонистами две гармошки, два патефона были, а аккордеона – ни одного. Патефон был в нашем краю у Сыроватских. В погожий летний вечер они раскрывали окно и ставили на подоконник чудо-ящик. Бодрым голосом сообщали миру счастливые певцы, как теперь хорошо живут в колхозной деревне, по которой шагают торопливые столбы электропередач. Какими они ни были торопливыми, но до нас так и не дошагали. Так и сидели с керосиновыми лампами до шестидесятых годов.
Нам нравилось переиначивать тексты песен. В песенке фронтового шофёра мы пели: «Крепче за барана держись, шофёр!» Исполнителю, певшему разухабисто: «Бывали дни весёлые, гулял я молодец!» – мы подпевали: «Бывали дни весёлые, по сорок дней не ел, не то, что было нечего, а просто не хотел». В песне со словами страдальца: «Зачем ты, безумная, губишь того, кто увлёкся тобой?..» – мы «безумную» заменили на «беззубую» и получилось, как нам казалось, очень даже смешно. А про Семёновну, ужас, что пели!
И голодно было, и тяжела работа, а выдумки и проказы нами не забывались. Одна из них была такая: на пути к заимке, в лесочке из тонких осинок и берёзок, мы пересекали ручей. Был он не глубок и не широк, однако же был. Переезжая через этот ручей верхом, мы с гиканьем и свистом понукали лошадей, хлестали их плетью, шпыняли босыми и твёрдыми, как голыш, пятками – в общем, делали всё, чтобы лошади, вступив в ручей, сами, не дожидаясь команды, рвали копыта. Мы умирали со смеху, видя, как новички валились в ручей от неожиданного проявления прыти лошадями, а косматая упрямица деда Моргуна носилась по кустам, стараясь избавиться от не совсем лихого наездника. Были и другие проказы, но о них лучше не вспоминать. Стыдно.
В четырнадцать лет я уже личность: я – прицепщик на тракторе, почти номенклатурная особа в масштабах колхоза. Мой начальник, с кривой ногой тракторист Василий Ершов, обдуваемый вольными байкальскими ветрами, спит сном младенца в высокой сочной траве, от его лёгкого дыхания колышутся яркие полевые цветы и трепещут бабочки… Я, управляя рычащей железякой, тоже не упускаю прекрасного. Я уже не я, не замурзанный прицепщик, а бравый лейтенант-танкист – неотразимо красив и храбр, ору во всё горло: «Броня крепка и танки наши быстры!» На этой должности и закатилась моя колхозная карьера. После школы я поступил в военное училище.
Из тех детских лет помню, как провожали на войну мужиков. Днём и ночью не стихали вопли баб, крики пьяных мужиков. Помню, как отхаживали мою бабушку, потерявшую за полгода двух сыновей, – Мишу и Толю. Ещё через полгода был убит её зять Гриша, на руках у тёти Юли остались пятеро, мал-мала меньше: старшему, Володьке, не было и десяти, а младшей, Томке, так и совсем ничего…
Старого почтальона боялись, как самого злого колдуна, и ждали с нетерпением его появления на мостике, отделявшем деревню от почты. После его неспешного прохода вдоль улицы, то тут, то там взрывался бабий вой, от которого подымались волосы на голове, ещё больнее было слышать писклявый детский плач. Вскоре старик отказался от этой невыносимой для него должности, его заменила девочка-подросток.
Кого только война не стронула с привычных мест, куда только не бежали люди, спасаясь от бомб, от голода, от смерти…Кто только не забредал в далёкую Сибирь, такую же голодную, как все уголки России, но к тому же ещё и холодную…
Однажды в нашу избушку влезло десятка два цыган. Попросились двое на часок – обогреть безногого старика, – а потянулась за ними нескончаемая вереница из существ всех полов, возрастов и размеров. Они грелись неделю, украдкой опустошая наши более чем скромные закрома. Наука не пошла впрок сердобольной маме, и ещё один табор вскоре раскинул свои перины и одеяла в наших «хоромах». Тут уж маму упросила её землячка, учительница из её села. Она бросила и школу, и деревню, и старенькую мать, и ушла с табором. У её господина была седая борода и блестящие сапоги, которые учительница снимала с его ног перед сном, она же и ноги ему мыла.
Ночевал у нас какой-то пилигрим. Седой, длинноволосый, в дырявом кожушке. Представился учителем, чем вызвал нескрываемый смех у всех присутствующих. Для проверки дали задачку из учебника Лизы про трубы, через которые втекает и вытекает вода; её, из всех самых умных наших близких и знакомых, никто решить не мог, а пилигрим взял и решил в два счёта, чем заслужил немалое уважение. Его даже накормили картошкой в мундире.
Приютили на время жестоких морозов молодую женщину с грудным ребёнком.
Поздним вечером, всё при той же холодной Луне, попросилась она переночевать, а мама отказала, потому что наш теремок был заполнен до отказа, посоветовала поискать приюта в других домах. Женщина ушла, а выскочившая немного погодя на улицу Лиза, увидела её за углом нашей избушки, плачущей над своим ребёнком. Её завели в дом, нашли самое тёплое местечко. Когда она сняла с себя многочисленные платки и одёжки, то превратилась в девчушку, а распеленав ребёнка, вскоре обо всём забыла и по-детски смеялась, забавляя его.
Ходил по селу невысокий, плотного сложения человек с армянской фамилией Хачикьян. Он примечателен был тем, что мог за один раз, на спор, да и без спора тоже, съесть ведро яиц, сваренных вкрутую, или ведро картошки. Ему было всё равно, что есть, лишь бы есть. Ходил он без рубашки, в расхристанной телогрейке, грудь и шея были цвета бурака.
В нашем доме обогревались будущие солдаты, проходившие подготовку при военкомате. Я с интересом наблюдал за ними издали; рассматривая винтовки и гранаты, сожалел, что не вышел годами. Потом узнавал, что тот или иной из них уже убит или ранен, и это не было диковиной, к этому привыкали.
Пошёл я в школу в неполные восемь лет. Солнечным сентябрьским днём побежал, конечно же, как и все мои сверстники, босиком туда, где всё таинственно и интересно. Ранняя осенняя пора в Сибири – прекрасное время. Все деревья в жёлтых, ярко-оранжевых, красных цветах, всё горит-переливается. Воздух тих и кристально прозрачен, дышишь и не надышишься. Голоса слышны далеко, они тоже окрашены всеми диапазонами звучания. И учиться интересно, и в школу спешу поутру с лёгким, радостным чувством.
«Наука» давалась мне легко, очевидно, потому, что я уже кое-чему научился у сестры, да и интересно было открывать для себя каждый раз что-то новое. Одно не устраивало мою бедную первую учительницу Сказальскую Валентину Владимировну – я держал карандаш в левой руке, привык к этому настолько, что переучивать меня было если не бесполезно, то весьма трудно, это уж точно. С её молчаливого согласия, появившегося не вдруг и не сразу, я и теперь пишу левой. Да и откуда мне быть правшой, если оба мои деда левши! Нет, не только этим я был известен классу и, ещё раз скажу, бедной моей учительнице. Пусть простит она меня за сорванные уроки, за непослушание, непоседливость… Я не был злостным нарушителем дисциплины, но иногда вдруг во мне просыпалось такое неуёмное желание рассмешить класс, что никакие меры на меня не действовали. Была даже «тройка» за поведение, чего до меня не знала школа с момента её основания. Почему я так выпендривался, только повзрослев, понял: мне крайне необходимо было привлечь к себе внимание сестрёнок из блокадного Ленинграда – Иры и Тани Балиных. Их мама была врачом в нашей больнице, а девочки-погодки учились со мной. Ира, тихая, светленькая девочка, сидела со мной за одной партой, и чтобы мои друзья-забияки не дразнили нас постыдными «жених и невеста», я изредка, чтобы все видели, как я далёк от справедливых подозрений, подёргивал её за косичку и в то же время проклинал себя за такую подлость.
Таня, Татка, как её все звали, была полной противоположностью сестрёнки. Она была кареглазая, чёрные волосы были всегда взъерошены, пуговицы у пальтишка вырваны с мясом, а где был хлястик, зияли две большие дырки, оттуда торчала клоками вата. Глаза её, как две огромные сливы, влажно блестели и выдавали её постоянное желание совершить что-то необычное. От неё можно было всего ожидать: и подножки в самом неподходящем месте, и удара по голове тяжёлой сумкой с чернильницей-непроливашкой, перестающей быть в этот момент непроливашкой.
По-видимому, мне очень хотелось им тогда понравиться. Но закончилась блокада, и Балины уехали в свой город, с тех пор я ничего о них не знаю. Просто интересно, что с этой Татки получилось? Из этого бесёнка всё могло выйти. У Ирины, уверен, всё должно быть хорошо. Во всяком случае, мне так хочется.
В школу ходили в любой мороз, и даже перескочивший сорокаградусную шкалу, и в близкий к пятидесяти. Причина здесь может быть и в том, что термометров не было ни у кого, и люди говорили: сегодня холодно (это около сорока градусов), сегодня страшно холодно, дым столбами стоит (это за сорок), невозможно холодно, топор от удара по мёрзлой чурке разлетелся на куски (около или за пятьдесят). Не пускали малышню ни в школу, ни на речку покататься на салазках в поющие и стонущие метели. «Не хватало ещё, чтобы унесло тебя куда-то да завалило снегом, – говорили старшие, – в каком тогда сугробе тебя искать?» В классах было так холодно, что сидели одетые, в рукавицах и шапках, писали карандашами, чернила замерзали в ледышки.
Вспоминается Новый 1944-й, мой первый учебный год. Ёлка в школе. Идёт представление. Все одеты в самое лучшее, самое тёплое. Мы знаем, что после праздничного концерта всем будут давать по кусочку коврижки, потому и терпеливо мёрзнем в холодном зале. Нас развлекают девочки в белых марлевых платьицах, они изображают белых лебедей, но очень уж синие они от холода эти лебеди.
Маруська Толстикова, моя соседка, тоже в марлевом платье, только ещё с деревянным кинжалом, спела песенку о коварстве и любви с такими словами:
Почему ты не пришёл, когда я велела,
До двенадцати часов лампочка горела?
При этом она смешно прыгала со своим страшным деревянным кинжалом около «изменщика» с приклеенными криво огромными чёрными усами.
Появились в нашем селе чужие люди, которых называли предателями. Они были под присмотром милиции, и, пожалуй, никто из местных не знал, за что они сосланы, может, потому и относились к ним, как ко всем остальным, без ненависти и презрения. К тому ж Сибирь и без предателей была полна людей с неясным прошлым.
Да и я там не должен был родиться, а где-нибудь в Гродно, Могилёве или на Украине. Оттуда приехали мои деды, а отец с мамой родились уже в Сибири. Их историю я просто обязан поведать.
Они жили в разных деревнях, стоящих друг от друга в трёх вёрстах. Отец родился в Толстовке, там обосновались переселенцы по столыпинской реформе из Могилёвщины, а мама из Тургеневки, там осели Гродненцы и Брестчане.
Воду брали из одной проруби. Кстати, воду этого источника, говорят, признали уникальной, скоро будут продавать в бутылках. И вот однажды там встретились пятнадцатилетняя Ганна, по метрике – Она, и шестнадцатилетний Яков. Ганна (Она) уронила в прорубь ведро, а Яков вынул его, дал ей свои рукавицы согреть окоченевшие руки. Через год поженились. За долгую совместную жизнь народили детей – половина сероглазых блондинов – в отца, половина чернявых, кареглазых – в мать.
Отец хлебнул горя сполна. Вскоре, после трагической гибели его отца (случайный выстрел), мать ввела в дом примака, который был младше её лет на десять, а то и более. До того примак ходил по деревням, гнал дёготь, жёг уголь, плёл короба, продавал это мужикам – тем и жил. Войдя в дом к Наталке, которая в нём души не чаяла и всё боялась, чтобы не покинул он её (обычная беда и забота женщин, прикормивших юнцов), примак забросил своё прежнее занятие и усиленно принялся проматывать крепкое недавно хозяйство. Активной помощницей ему в этом неблагородном занятии была и сама хозяйка. Скоро от хозяйства остались рожки да ножки. Но на этом не остановился примак. Он стал проявлять чудеса садизма над детьми, и отцу моему грозила смерть. Знали, конечно, об этом и братья покойного Степана, мяли бока не раз примаку, но исправить его было невозможно. И вот однажды, ещё до рассвета, в дом к Наталке пришёл дед моего отца и забрал его к себе, в своё большое семейство. Сделал он это после приснившегося ему сна, в котором покойный сын Степан умолял забрать мальчишку к себе, иначе погубят его эти ироды.
Бабушки были полной противоположностью одна другой. Высокая, худая, прямая, немногословная – мамина мама – баба Мартося, девичья её фамилия Гуревская. Она недолюбливала бабу Наталку и называла её мужичкой. У бабы Мартоси – чистота и порядок, у бабы Наталки – неимоверный кавардак. Но зато какая у неё подвижность! Кроме всего, Наталка врачевала во всей округе заговорами да травами. Это у неё получалось превосходно. Я сам видел, как однажды к ней прибежала молодица, принесла не плачущего, а разрывающегося на части от крика грудного ребёнка. Со слезами обречённо отдала его Наталке, а через минуту он уже спал, сладко почмокивая губами.
Конкурентов у бабы Наталки, практически, не было. Была ещё одна в деревне, которой казалось, что тоже может врачевать, но её всерьёз не принимали. Звали её, как и всех баб, по имени мужа – Пануреиха. Ростом она была под два метра, со свирепым выражением лица и огромными разлапистыми руками и ногами.
Как-то, когда не было в деревне главного врачевателя, Наталки, в деревню приехал на двухколёсной телеге – торге – молодой бурят, у него что-то со спиной стряслось. Принимала его Пануреиха. Узнав, в чём его беда, коротко рявкнула, показав на порог: «Лягай, бусурман!» Бурят интуитивно подчинился. «Мордой до горы!» – уточнила позу Пануреиха. Опять непонятно, каким образом бурят правильно понял команду. Взяв топор, поблизости стоявший, Пануреиха выдала очередную команду дрожащему уже от могильного ужаса буряту: «Путай!», что в переводе значило: «Спрашивай». Бурят этого, почти иностранного, слова не знал и на своё горе решил уточнить. «Куво, баушка, путай?» – заискивающе переспросил он. В ответ Пануреиха, вскинув к чёрному задымлённому потолку топор, зарычала, как лев в пустыне: «Путай, каб Пярун табе забив!»
Больного бурята, забывшего все свои болезни, как ветром унесло. Он убежал в свой улус напрямик через лес, оставив у ворот коня с торгой.
Трудно было ему, привычному к безобидным глухим звукам бубна и пляскам шамана у костра, понять языческий ритуал страшной в своей решимости старухи в чёрном и с топором в руках. Будь на ней хотя бы одна яркая ленточка, а в руках балалайка или дудочка, тогда бы всё проходило иначе.
К вечеру пришёл кривоногий старик с редкой сивой бородёнкой, не сказав никому слова, отвязал от изгороди коня, сел в торгу и уехал, посвистывая не смазанными колёсами.
Как-то и Наталка так занедужила, что без больницы ей было не обойтись. Через три дня её оттуда выписали. Врачи не могли поступить иначе, потому что затронута была их профессиональная честь.
Прознав о новом местонахождении Наталки, пуще прежнего устремились больные, особенно мамаши с детьми, к ней в палату. Врачи были взбешены!
– Та не я их зову, яны сами идуть! – оправдывалась Наталка. – Вон и врачиха ваша, Вольга Мироновна, свого брыластого прино?сила!
У бабы Мартоси отец был офицером польской армии, ходил в сюртуке и галстуке, любил играть на скрипке. А у бабы Натальи кто был отец, не знаю, известно, что в Киеве она работала служанкой у своего дяди-прокурора, знать, не последний человек был и её отец. От дяди-прокурора, очевидно, переняла Наталка такие качества, как честность и справедливость. В то время судьи и прокуроры в большинстве были таковыми. Она была чрезвычайно бойкой на язык, прозвища, сказанные ею мимоходом, приклеивались раз и навсегда. Жила она бедно и никому никогда не завидовала. От примака остались два сына, а сам он погиб на войне в панфиловской дивизии под Москвой.
Мой дед, по отцу Степан, был страстный охотник, это его и погубило в тридцать три года. До этого был ранен в ногу на германской войне, побывал в лапах медведя, еле выжил, и тут случайный выстрел в живот. Был грамотный для той поры настолько, что ему предлагали место писаря в администрации Иркутска.
Дед Трофим, отец мамы, тоже был грамотный, но он не был, к сожалению, охотником, а целиком предан столярному и плотницкому делу. Ветряк до сих пор стоит на пригорке Тургеневки, как памятник деду, сработанный его же руками. Когда-то, при царе ещё, был моряком. Его форму, хранимую бабой Мартосей, как зеницу ока, во время гражданской войны забрали белые, может быть, и красные; мыкались они по Сибири долго, наседая поочерёдно друг на друга.