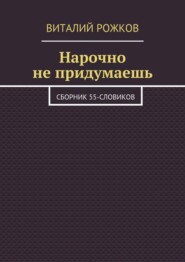По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сундучок бабушки Нины. Сказ второй
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сундучок бабушки Нины. Сказ второй
Виталий Рожков
Бывают люди, которые дня не могут прожить без глупой шутки. Им кажется, что они творят добро, веселя других. А на самом деле доставляют море неприятностей. Как пастушонок, кричавший про волков. Ивашка совсем не такой…
Сундучок бабушки Нины. Сказ второй
Виталий Рожков
Светлой памяти моей бабули, Нины Николаевны Ворон, посвящается…
© Виталий Рожков, 2018
ISBN 978-5-4490-5916-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Сказ про Ивашку-пастушка
Было это али не было, не могу точно сказать. Хотя я тогда уже давно на свет появилась и даже замуж за деда твоего выйти успела. Ох, и трудный же он человек был! Чуть что не по евонному, такой сразу ор поднимал, хоть святых выноси. Но я-то любила его всем сердцем, дурака старого. Или вот спрошу о чём-то, так таким сразу важным, как павлин, становился. Мол, дура ты неотёсанная, а я жизнь-то познал. Обидно, порой, до слёз было. Я и спрашивать-то вскоре совсем перестала. Своим-то умом оно как-то лучше думать. Сам же видишь, что сканворды словно орешки щёлкаю. Хотя руки у него золотые были. Что где сломается-мигом починит. Правда, после водовку просил. Любил хмельную, но не до поросячьего визга. Но, что греха таить, как выпьет, таким сразу ласковым становится, ну я и таяла, что твоё эскимо. Так и прожили вместе сорок пять лет. Тяжело уходил, я все слёзы выплакала. Царствие ему Небесное!
Что-то я заболталась совсем, прошлое припомнив. Пора и сказку новую сказывать. А то ты, смотрю, совсем притих. Прости бабку свою болтливую, Христа ради. Ну, сядь поудобнее и слушай внимательно-внимательно. Итак, расскажу я сегодня про пастушонка нашего, Ивашку.
Случилось это тогда, когда самолёты твои ещё даже и во сне не снились. А про машины только Макар-золотые руки, умелец царский, думал. Человек-то очень хороший был! Всем на помощь всегда прийти спешил. Любили его люди как родного. Хотел Макар, чтобы царь наш Иван не по лестнице сам спускался своими дюже больными ногами (как-никак, шестьсот лет стукнуло в мае, хоть и родился в этом месяце, но в жизнь не маялся никогда), а при помощи агрегата чудного, лифтом прозываемого. Думал, гадал да и придумал. И царь наш стал тотчас же радёхонек-прирадёхонек. Ещё бы, ноги-то вовсе болеть перестали. Да не о нём речь сейчас. Хоть и мудрым дюже правителем был. Хотя, почему был? Говорят, что царь Иван и до сих пор живёт себе не тужит на пенсии, рыбача да сказки сочиняя.
В селе Кукуево, где когда-то проживал купец Авдей с доченькой своей Марфою, да женой, ясноокой Чеславой и детками, Марьей и Окулиной, жил да был старик один древний, Николаем Пантелеймоновичем кликали. Никто и не помнил, сколько ему лет. Мол, сколько себя помним, он всегда на виду. Да дед Николай и сам этого не знал. Оно ему и ненужно вовсе было. А славился старик этот уменьями своими. Мог и ложки выточить, да такие, что сами щи да кашу хлебали; и колыбельку для младенца сварганить, в которой даже самая рёва-корова мигом успокаивалась и спать укладывалась; и свистульки всякие смастерить, что у хворобного все его напасти как рукой снимали, а того, на кого тоска зелёная злючая напала, мигом счастливым делали. Чудо был, а не человек! Но не только это мог дед Николай творить, с первой зорьки и до самой поздней ночки покоя не зная. Умел он так сказки да были рассказывать, что все, и дети, и взрослые, его с открытым ртом слушали. А после другим передавали и текла слава о мудром старике рекой по белому свету. Жил дед Николай в старом доме, что ещё его прадед построил. То стены поправит, то крышу перекроет, то печку перекладёт. Держал скотину: корову Окулину, что молоко целебное давала любые хвори излечивающее; свинью Дарью, от хрюканья веселого которой сердце петь начинало; шесть овец, прозванных Светкой, Глашкой, Наташкой, Парашкой, Пестимеей да Авдотьей, шерстью своей славящихся, любой камень простой в золото обращавшей. В конюшне конь ретивый, Буцефал (дед-то о многом знал, чем минувшее-то славилось), да лошадь Нефертити, детишек с ногами больными лечивших. Пять кур, Пеструшка, Краснушка, Несушка, Душка, Дарушка – давали каждый день по пять яиц, мигом даже самый страшный голод утолявших. Петух, Пётр Петрович своим голосом мог и разбудить, и спать уложить. Пёс Палкан никого на порог чужого не пускал, хоть и ласковым был очень. Каждый день дед Николай начинал с кормёжки своих любимцев, потом гривы Буцефалу да Нефертити расчёсывал гребнем золотым. Поливал огород, на котором росли не только огурцы с тыквою, лук с чесноком, капуста с брюквой да репой, укроп с сельдереем, но и арбузы с дынями. Цветы разные, глаз радующие, от вредителей уксусом опрыскивал. А после на речку шёл (причём год круглый) и или купался, или рыбу ловил. Страсть, как ушицу тройную любил! Жена его, Настасья, уж как двадцать годков на небесах была. Сын да дочь выросли и в Муром жить уехали. Внуки каждое лето приезжали, радуя старика. Любил их дед страшно! Каждый раз игрушки новые мастерил. Но большую часть года дед Николай один был совсем. Бывало, проснётся с зорькой первой, глянет в таз медный, до блеска начищенный, и, хитро улыбнувшись, скажет:
– Есть ещё порох-то в пороховницах!
Но потом посмотрит на игрушки внуков да так вдруг сразу ему тоскливо станет, что слёзы, нет-нет, да и накатят. Тогда дед Николай садился на лавку и до поздней ночи что-то мастерил, делом от мыслей своих спасаясь невесёлых. Как-то раз, возвращаясь из лесу, где искал подходящие коряги да ветки, услышал детский плач, раздающийся из кустов малины. Сердце защемило и дед Николай молнией туда кинулся и вскоре уже в руках держал младенца, в шёлковую тряпицу запеленутого.
– Эх, – вздохнул старик, – и где ж мать-то твоя-кукушка?
Но младенец, схватив его палец, улыбнулся и стал сосать его словно соску.
– Ах, что же это я, дурень старый! Ведь ты, наверно, есть хочешь? – воскликнул вдруг дед Николай и со всех ног понёсся домой.
Согрел молочка в маханькой кружечке и дал мальцу. Вскоре. Насытившись, тот заснул. А старик так всю ночь с ним на руках и просидел. Все сердцем своим добрым да душой чистой полюбив мальчонку.
– Назову-ка я тебя Ивашкой, – сказал дед Николай, как только Пётр Петрович огласил всю округу.
Малец улыбнулся и что-то загугукал на своём языке, никому непонятном. Прошли годы и Ивашка вырос в высокого статного парня. Девки сельские по нему сохли и каждый вечер на завалинке песни пели. Но сыну деда Николая свобода была всего дороже. Ещё с малолетства стал он пасти коров сельских на лугу зелёном близ речки Кукуевка. Справно дело своё выполнял. Ещё ни разу ни одна корова от зубов волчих не пала. Все его за это очень любили. Ивашка помогал деду Николаю по хозяйству да учился премудростям его, вскоре став мастером знатным. Люди то лавку новую заказывали, то колыбельку, а то и прялку. Заказов было хоть отбавляй. Дед Николай на сына своего никак нарадоваться не хотел. Денег тогда ещё не было и люди еду приносили. Так что жили они не тужили. Однажды дед, как обычно собрав в круг детей да взрослых, сказку новую начал:
– Было это лет двести назад. Мой прапрапрадед тогда ещё совсем младенцем был. Жил в нашем селе Кукуево пастушонок один, Митькой звали. Ленивый был до жути. Вечно у него то голова болела, то спину ломило, как у старика какого. Люди и рады бы коров своих ему не давать, да только других пастухов у нас не было. Петька Косой, дурак деревенский, в колодец пьяный свалился. Вот и приходилось селянам на Митьку надеяться. Как-то раз пас он коров и вдруг ему так скучно стало, хоть плачь.
– Волки! Волки! Волки! – вдруг закричал громко Митька, хотя клыкастых и в помине не было.
Люди с вилами да топорами прибежали раскрасневшиеся. Глядь, а Митька лежит себе на травке, да улыбается хитро.
– Ух, нелюдь! – крикнули сельчане и назад ушли.
В следующий раз снова пастушонку скучно стало.
– Волки! Волки! Волки! – закричал он громко, хоть опять никого и не было.
Люди с вилами да топорами прибежали, дела все побросав. Глядь, а Митька этот снова на травке лежит да насмехается.
– Уф, озорник, и дадим мы тебе по шее! – крикнули сельчане и по домам.
На третий раз волки на самом деле из лесу вышли, видать им обидно стало. Набросились на коров да телят.
– Волки! Волки! Волки! – благим матом заголосил Митька, да только никто не прибежал на помощь.
Люди уже не верили лживому пастушонку. Покончив с коровами, волки набросились и на него. Обеспокоенные люди пришли утром на луг и ничего кроме белых косточек и не увидели.
Никогда не лгите, люди добрые, ибо обман вам жизнь всю поломает.
Выслушав отца названного своего, Ивашка улыбнулся и махнув рукой, сказал:
– Да я волкам бы этим голыми руками пасть порвал!
– Не зарекайся, сынок, – улыбнувшись сказал дед Николай, – а вдруг и на самом деле беда придёт.
Но Ивашка снова рукой махнул. Мол, сказки всё это. Пошёл он как-то на луг заветный и, пока коровы травку щипали, достал дудочку самодельную и стал играть на ней. От чудной мелодии даже птицы петь перестали. И не заметил совсем, игрой увлечённый, Ивашка гостей незваных. А как увидел, то уж поздно было что-то делать. Вскочил и взяв палку попытался клыкастых отогнать от коров, жалобно мычавших.
– Волки! Волки! Волки! – закричал громко парень, да только до Кукуево не докричаться никак было.
«Что же делать?» – подумал горемыка.
– Смертный, уйди-ка ты лучше с дороги! – вдруг прорычал кто-то.
Ивашка обернулся и чуть рассудка не лишился. То с ним не человек говорил, а волк. Присмотрелся Ивашка получше и вдруг понял – Волкодлак это проклятущий. Бросился к осине и сломав крупный сучок, ножичком заточил как мог, острым его сделав.
– Не подходи, упырь окаянный! – крикнул парень, размахивая осиновым колом.
Но Волкодлак лишь оскалился в улыбке, клыки свои огромные показав.
– Куда тебе, дубине стоеросовой, супротив меня идти! – зарычало чудище, вращая глазищами. – Уйди с дороги! Нето до гроба жалеть будешь!
Но Ивашка был не трус.
– Не дам тебе коров сожрать! – крикнул он и со всего размаху всадил в сердце Волкодлака осиновый кол.
Взвыл нехристь, да не издох только.
– Дурья твоя башка! – зарычал вновь – Колом осиновым меня не убить! А за дерзость твою я заберу тебя к себе в логово! Век мне слугой будешь!
Ивашка хотел было снова окаянного колом ударить, да только чудище схватило его лапищами своими и в лес убежало.
Прождав до полудня сына, пошёл дед Николай на луг заветный. Коровы все целёхоньки были, только напуганные очень. А Ивашки и след простыл.
Виталий Рожков
Бывают люди, которые дня не могут прожить без глупой шутки. Им кажется, что они творят добро, веселя других. А на самом деле доставляют море неприятностей. Как пастушонок, кричавший про волков. Ивашка совсем не такой…
Сундучок бабушки Нины. Сказ второй
Виталий Рожков
Светлой памяти моей бабули, Нины Николаевны Ворон, посвящается…
© Виталий Рожков, 2018
ISBN 978-5-4490-5916-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Сказ про Ивашку-пастушка
Было это али не было, не могу точно сказать. Хотя я тогда уже давно на свет появилась и даже замуж за деда твоего выйти успела. Ох, и трудный же он человек был! Чуть что не по евонному, такой сразу ор поднимал, хоть святых выноси. Но я-то любила его всем сердцем, дурака старого. Или вот спрошу о чём-то, так таким сразу важным, как павлин, становился. Мол, дура ты неотёсанная, а я жизнь-то познал. Обидно, порой, до слёз было. Я и спрашивать-то вскоре совсем перестала. Своим-то умом оно как-то лучше думать. Сам же видишь, что сканворды словно орешки щёлкаю. Хотя руки у него золотые были. Что где сломается-мигом починит. Правда, после водовку просил. Любил хмельную, но не до поросячьего визга. Но, что греха таить, как выпьет, таким сразу ласковым становится, ну я и таяла, что твоё эскимо. Так и прожили вместе сорок пять лет. Тяжело уходил, я все слёзы выплакала. Царствие ему Небесное!
Что-то я заболталась совсем, прошлое припомнив. Пора и сказку новую сказывать. А то ты, смотрю, совсем притих. Прости бабку свою болтливую, Христа ради. Ну, сядь поудобнее и слушай внимательно-внимательно. Итак, расскажу я сегодня про пастушонка нашего, Ивашку.
Случилось это тогда, когда самолёты твои ещё даже и во сне не снились. А про машины только Макар-золотые руки, умелец царский, думал. Человек-то очень хороший был! Всем на помощь всегда прийти спешил. Любили его люди как родного. Хотел Макар, чтобы царь наш Иван не по лестнице сам спускался своими дюже больными ногами (как-никак, шестьсот лет стукнуло в мае, хоть и родился в этом месяце, но в жизнь не маялся никогда), а при помощи агрегата чудного, лифтом прозываемого. Думал, гадал да и придумал. И царь наш стал тотчас же радёхонек-прирадёхонек. Ещё бы, ноги-то вовсе болеть перестали. Да не о нём речь сейчас. Хоть и мудрым дюже правителем был. Хотя, почему был? Говорят, что царь Иван и до сих пор живёт себе не тужит на пенсии, рыбача да сказки сочиняя.
В селе Кукуево, где когда-то проживал купец Авдей с доченькой своей Марфою, да женой, ясноокой Чеславой и детками, Марьей и Окулиной, жил да был старик один древний, Николаем Пантелеймоновичем кликали. Никто и не помнил, сколько ему лет. Мол, сколько себя помним, он всегда на виду. Да дед Николай и сам этого не знал. Оно ему и ненужно вовсе было. А славился старик этот уменьями своими. Мог и ложки выточить, да такие, что сами щи да кашу хлебали; и колыбельку для младенца сварганить, в которой даже самая рёва-корова мигом успокаивалась и спать укладывалась; и свистульки всякие смастерить, что у хворобного все его напасти как рукой снимали, а того, на кого тоска зелёная злючая напала, мигом счастливым делали. Чудо был, а не человек! Но не только это мог дед Николай творить, с первой зорьки и до самой поздней ночки покоя не зная. Умел он так сказки да были рассказывать, что все, и дети, и взрослые, его с открытым ртом слушали. А после другим передавали и текла слава о мудром старике рекой по белому свету. Жил дед Николай в старом доме, что ещё его прадед построил. То стены поправит, то крышу перекроет, то печку перекладёт. Держал скотину: корову Окулину, что молоко целебное давала любые хвори излечивающее; свинью Дарью, от хрюканья веселого которой сердце петь начинало; шесть овец, прозванных Светкой, Глашкой, Наташкой, Парашкой, Пестимеей да Авдотьей, шерстью своей славящихся, любой камень простой в золото обращавшей. В конюшне конь ретивый, Буцефал (дед-то о многом знал, чем минувшее-то славилось), да лошадь Нефертити, детишек с ногами больными лечивших. Пять кур, Пеструшка, Краснушка, Несушка, Душка, Дарушка – давали каждый день по пять яиц, мигом даже самый страшный голод утолявших. Петух, Пётр Петрович своим голосом мог и разбудить, и спать уложить. Пёс Палкан никого на порог чужого не пускал, хоть и ласковым был очень. Каждый день дед Николай начинал с кормёжки своих любимцев, потом гривы Буцефалу да Нефертити расчёсывал гребнем золотым. Поливал огород, на котором росли не только огурцы с тыквою, лук с чесноком, капуста с брюквой да репой, укроп с сельдереем, но и арбузы с дынями. Цветы разные, глаз радующие, от вредителей уксусом опрыскивал. А после на речку шёл (причём год круглый) и или купался, или рыбу ловил. Страсть, как ушицу тройную любил! Жена его, Настасья, уж как двадцать годков на небесах была. Сын да дочь выросли и в Муром жить уехали. Внуки каждое лето приезжали, радуя старика. Любил их дед страшно! Каждый раз игрушки новые мастерил. Но большую часть года дед Николай один был совсем. Бывало, проснётся с зорькой первой, глянет в таз медный, до блеска начищенный, и, хитро улыбнувшись, скажет:
– Есть ещё порох-то в пороховницах!
Но потом посмотрит на игрушки внуков да так вдруг сразу ему тоскливо станет, что слёзы, нет-нет, да и накатят. Тогда дед Николай садился на лавку и до поздней ночи что-то мастерил, делом от мыслей своих спасаясь невесёлых. Как-то раз, возвращаясь из лесу, где искал подходящие коряги да ветки, услышал детский плач, раздающийся из кустов малины. Сердце защемило и дед Николай молнией туда кинулся и вскоре уже в руках держал младенца, в шёлковую тряпицу запеленутого.
– Эх, – вздохнул старик, – и где ж мать-то твоя-кукушка?
Но младенец, схватив его палец, улыбнулся и стал сосать его словно соску.
– Ах, что же это я, дурень старый! Ведь ты, наверно, есть хочешь? – воскликнул вдруг дед Николай и со всех ног понёсся домой.
Согрел молочка в маханькой кружечке и дал мальцу. Вскоре. Насытившись, тот заснул. А старик так всю ночь с ним на руках и просидел. Все сердцем своим добрым да душой чистой полюбив мальчонку.
– Назову-ка я тебя Ивашкой, – сказал дед Николай, как только Пётр Петрович огласил всю округу.
Малец улыбнулся и что-то загугукал на своём языке, никому непонятном. Прошли годы и Ивашка вырос в высокого статного парня. Девки сельские по нему сохли и каждый вечер на завалинке песни пели. Но сыну деда Николая свобода была всего дороже. Ещё с малолетства стал он пасти коров сельских на лугу зелёном близ речки Кукуевка. Справно дело своё выполнял. Ещё ни разу ни одна корова от зубов волчих не пала. Все его за это очень любили. Ивашка помогал деду Николаю по хозяйству да учился премудростям его, вскоре став мастером знатным. Люди то лавку новую заказывали, то колыбельку, а то и прялку. Заказов было хоть отбавляй. Дед Николай на сына своего никак нарадоваться не хотел. Денег тогда ещё не было и люди еду приносили. Так что жили они не тужили. Однажды дед, как обычно собрав в круг детей да взрослых, сказку новую начал:
– Было это лет двести назад. Мой прапрапрадед тогда ещё совсем младенцем был. Жил в нашем селе Кукуево пастушонок один, Митькой звали. Ленивый был до жути. Вечно у него то голова болела, то спину ломило, как у старика какого. Люди и рады бы коров своих ему не давать, да только других пастухов у нас не было. Петька Косой, дурак деревенский, в колодец пьяный свалился. Вот и приходилось селянам на Митьку надеяться. Как-то раз пас он коров и вдруг ему так скучно стало, хоть плачь.
– Волки! Волки! Волки! – вдруг закричал громко Митька, хотя клыкастых и в помине не было.
Люди с вилами да топорами прибежали раскрасневшиеся. Глядь, а Митька лежит себе на травке, да улыбается хитро.
– Ух, нелюдь! – крикнули сельчане и назад ушли.
В следующий раз снова пастушонку скучно стало.
– Волки! Волки! Волки! – закричал он громко, хоть опять никого и не было.
Люди с вилами да топорами прибежали, дела все побросав. Глядь, а Митька этот снова на травке лежит да насмехается.
– Уф, озорник, и дадим мы тебе по шее! – крикнули сельчане и по домам.
На третий раз волки на самом деле из лесу вышли, видать им обидно стало. Набросились на коров да телят.
– Волки! Волки! Волки! – благим матом заголосил Митька, да только никто не прибежал на помощь.
Люди уже не верили лживому пастушонку. Покончив с коровами, волки набросились и на него. Обеспокоенные люди пришли утром на луг и ничего кроме белых косточек и не увидели.
Никогда не лгите, люди добрые, ибо обман вам жизнь всю поломает.
Выслушав отца названного своего, Ивашка улыбнулся и махнув рукой, сказал:
– Да я волкам бы этим голыми руками пасть порвал!
– Не зарекайся, сынок, – улыбнувшись сказал дед Николай, – а вдруг и на самом деле беда придёт.
Но Ивашка снова рукой махнул. Мол, сказки всё это. Пошёл он как-то на луг заветный и, пока коровы травку щипали, достал дудочку самодельную и стал играть на ней. От чудной мелодии даже птицы петь перестали. И не заметил совсем, игрой увлечённый, Ивашка гостей незваных. А как увидел, то уж поздно было что-то делать. Вскочил и взяв палку попытался клыкастых отогнать от коров, жалобно мычавших.
– Волки! Волки! Волки! – закричал громко парень, да только до Кукуево не докричаться никак было.
«Что же делать?» – подумал горемыка.
– Смертный, уйди-ка ты лучше с дороги! – вдруг прорычал кто-то.
Ивашка обернулся и чуть рассудка не лишился. То с ним не человек говорил, а волк. Присмотрелся Ивашка получше и вдруг понял – Волкодлак это проклятущий. Бросился к осине и сломав крупный сучок, ножичком заточил как мог, острым его сделав.
– Не подходи, упырь окаянный! – крикнул парень, размахивая осиновым колом.
Но Волкодлак лишь оскалился в улыбке, клыки свои огромные показав.
– Куда тебе, дубине стоеросовой, супротив меня идти! – зарычало чудище, вращая глазищами. – Уйди с дороги! Нето до гроба жалеть будешь!
Но Ивашка был не трус.
– Не дам тебе коров сожрать! – крикнул он и со всего размаху всадил в сердце Волкодлака осиновый кол.
Взвыл нехристь, да не издох только.
– Дурья твоя башка! – зарычал вновь – Колом осиновым меня не убить! А за дерзость твою я заберу тебя к себе в логово! Век мне слугой будешь!
Ивашка хотел было снова окаянного колом ударить, да только чудище схватило его лапищами своими и в лес убежало.
Прождав до полудня сына, пошёл дед Николай на луг заветный. Коровы все целёхоньки были, только напуганные очень. А Ивашки и след простыл.