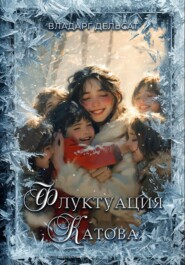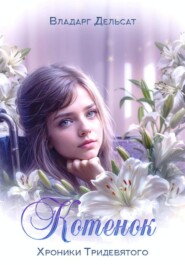По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Понимание
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Закончив с обедом, поднимаюсь с места, чтобы двинуть в медотсек. Очень многое непонятно с Катей, на самом деле, но подробностей я не знаю, поэтому просто пытаюсь представить, с какого корабля могла бы быть девочка. Ничего не представляется, и тому есть несколько причин. Во-первых, восемь лет назад никто точно не терялся, во-вторых, роботы такого типа на две эпохи устарели, а, в-третьих, именно факт того, что ее желали убить при нашем приближении, совершенно точно что-то мне напоминает. Надо с мамой связаться, может быть, она помнит?
Лифт выносит меня на уровень медицинского отсека, но в голову так ничего и не приходит. Деда действительно не хватает. У папы-то опыта просто такого нет, а вот дед… Недаром он во Флоте служит, так что, наверное, понимает, в чем тут дело. Вот и медотсек. Помаргивает желтым огоньком медицинская капсула аварийного комплекта, внутри нее девочка с очень тонкими руками и ногами и относительно широкой грудной клеткой. Это все, что можно увидеть за затуманенной крышкой капсулы.
Взяв стул, сажусь рядом с капсулой, разглядывая Катино лицо, выглядящее неподвижным. Но аппаратура показывает, что она жива, значит, так оно и есть. Вдруг глаза девочки широко раскрываются, в первое мгновение она явно пугается, но, увидев меня, успокаивается. Значит, я для нее неопасный. Интересно, как она это определяет?
– Привет, – говорю ей, зная, что в капсуле все отлично слышно. – Тебе пока нельзя вставать, только не пугайся, пожалуйста.
– Аленка говорит, – доносит до меня ее голос капсула, – что бояться здесь некого, но я пока только тебя не боюсь, нечетный.
– А почему «нечетный»? – удивляюсь я.
– У тебя эта штука болтается, значит ты нечетный, – совершенно непонятно объясняет она. – А у меня нет этой штуки, а есть дырочка, значит, я четная!
Тут до меня доходит: она о первичных половых признаках говорит, значит, получается, четные – девочки, а нечетные – мальчики? Ой, что-то мне не нравится…
– А тут нет хозяев? – еще тише спрашивает Катя, и в глазах у нее моментально появляется страх. – А то меня в измельчитель кинут…
Мне становится нехорошо, потому что, наслушавшись рассказов старшего поколения, я понимаю, что именно она сказать хочет. «Измельчитель», скорее всего, означает убийство. А вот за что ее убивать, я сейчас попытаюсь узнать. Интересно, кого она называет «хозяевами»? Если взрослых, то проблема очень большая, просто огромная, ибо у меня медицинские знания только в рамках общей программы.
– Здесь нет хозяев, – спокойно отвечаю я. – А за что тебя в измельчитель?
– Я сломанная, – опять не слишком понятно объясняет она. – Меня хотели уже, но семнадцатый кинул меня куда-то и сделал так, что я улетела, а робот не мог меня в измельчитель, потому что его там не было.
– Ты не сломанная, – качаю я головой. – И никаких «хозяев» у тебя точно нет, поэтому больно больше никогда не будет.
– Ты врешь, наверное… – грустно говорит она, тихо всхлипнув. – Успокаиваешь, да? Только я давно смирилась, потому что устала уже.
Я же думаю, как ее погладить так, чтобы плохо не сделать, у нее же кости очень хрупкие сейчас. Но квазиживая, наблюдающая за нами из другого угла отсека, увидев мой жест, кивает. Крышка капсулы не поднимается, а чуть сдвигается, открывая голову девочки Кати. Я тянусь к ней рукой очень медленно, чтобы не пугать, после чего глажу. В первый момент сжавшаяся, она замирает под моей рукой.
– А что ты такое делаешь? – спрашивает меня.
– Я глажу тебя, Катенька, – как умею ласково говорю ей, представив, что с малышами разговариваю. – Потому что ты очень хорошая девочка.
– Девочка? – удивляется она еще сильнее. – А что это такое?
– Девочка – это то, что ты называешь «четной», – мягко рассказываю я, представляя, что она моя сестра. – Вот у тебя есть имя – Катя, а…
– Нет, Катя – это название! – мотает Катя головой. – Так-то я «две четверки», но семнадцатый меня Катей называл, вот я так и называюсь, понимаешь?
Сейчас мои волосы точно дыбом встанут, потому что это непредставимо просто – то, что она говорит.
Мусорщик. Четырнадцатая
Открыв глаза и ощутив привычную боль, в первый момент испытываю недоумение – ведь нас же должны были уничтожить. Мы сломанные игрушки, играть с которыми уже неинтересно, поэтому нас решили скопом выкинуть, но, чтобы не загрязнять планету, хотели отправить на звезду. Нет у меня никаких эмоций уже, совсем нет, только младших очень жалко.
Почему-то я не чувствую ни брезгливости, ни злобы, а только страх. Но страх – это понятно, другие игрушки просыпаются же. Интересно, почему мы живы? Неужели хозяева решили уморить нас более болезненно? С них станется, потому что играют они нами так, что выживают немногие. Почему-то чаще всего становятся пеплом в измельчителе нечетные, а четные как будто проклятые – живут дольше, радуя своими криками и слезами злобных хозяев.
Вспомнив о младших, с трудом поднимаюсь из ванны, в которой лежу. Кажется, буквально только что нас складировали в них, чтобы затем забыть о нас навсегда, и вот мы все еще живы. Мне, кстати, повезло еще – я могу ходить. Недолго, недалеко, но могу. Главное, не забывать отдыхать, потому что иначе просто упаду и младших напугаю.
Интересно, сколько нас вообще осталось? Сейчас вот тут присяду, отдышусь и пойду младших вынимать. Надеюсь, хоть кто-то из нечетных остался в живых, потому что сложно будет… Из старших четных, по-моему, только я осталась, потому что четвертую еще когда зажарили. Появляется надежда на то, что хозяев нет вообще, но это из области сказок, конечно.
– Тридцать вторая, тридцать четвертая, тридцать шестая, потерпите немножко, сейчас я вас вытащу, только остальных проверю, – говорю я готовым заплакать четным.
Обойдя ванны, я вижу, что нас осталось одиннадцать четных со мной и один нечетный – если выживет. Выглядит он плохо, честно говоря, так что может и не выжить. Все с шестидесятого номера не проснулись. Может быть, еще не проснулись, а может, и вообще, но тут я не могу ничего сказать. Точно помню, что с нами были из старших семнадцатый и девятнадцатый, но обоих не вижу. Наверное, их забрали на игру, хоть и не слышно криков. Сейчас надо перенести младших, ведь они не ходят совсем. Кому-то ножки полностью отломали, у кого-то они почему-то не шевелятся, но четные ходить не могут, кроме меня, конечно. Нечетного, насколько я вижу, лучше не трогать, может, и выживет. Он хрипит, на губах кровавые пузыри. Такое я уже видела, и оно меня почти уже не трогает. Мы игрушки, поэтому путь у нас у всех один и тот же – рано или поздно медленно раскрутится ротор измельчителя, заставляя почувствовать последнюю боль.
– Пятьдесят шестая, очень больно? – негромко спрашиваю я, осторожно вынимая совсем еще маленькую четную из ванны, чтобы переложить на стол. Она именно из тех, кому ножки совсем отломали.
– Я поте… плю… – бедняжка едва может говорить, но не плачет. Боится без разрешения плакать.
Все мы боимся, на самом деле, хотя бояться уже нечего – нас выкинули, и теперь весь вопрос только в том, почему мы живы. Но пока мне нужно повытаскивать малышек, потому что осталась я из старших одна. Сколько мне лет, я не знаю, да никто из нас не знает, сколько нам лет, только иногда в памяти встает что-то странное да проскакивают какие-то воспоминания. Но это неважно, важны только малышки – в любом случае мы все здесь приговорены.
Нечетный как-то очень жалобно взвизгивает и замирает, я отсюда вижу. Даже проверять нет смысла. Ушел наш последний нечетный, повезло ему, закончилось все. И остались теперь только четные… Из всех нечетных жальче всего семнадцатого, он хороший был, нас называл красивыми словами. Каждую четную назвал, каждую! Наверное, его в игрушки перевели откуда-то, я просто не знаю откуда, ну откуда-то же мы сюда попали…
Сорок четвертой тоже нет, но она, наверное, оказалась в числе тех, кого сразу в измельчитель засунули. А часть ванн еще разбитые, и там мертвые четные и нечетные, Некоторые уже и скелетами стали, значит, давно уже. Надо четным моим маленьким рассказать, что я скоро приду, а самой аккуратно обойти корабль, если мы еще на нем. Нужно выяснить, есть тут хозяева или нет, найти чего-нибудь поесть малышкам. И попить – это важнее. Кто у нас тут постарше…
– Двадцать восьмая, пригляди за остальными, я скоро вернусь, – прошу я уже вполне пришедшую в себя четную. – Мне нужно поискать поесть и попить и…
– Посмотреть, где хозяева, – кивает она мне. – Я погляжу, не беспокойся.
Она действительно приглядит, в этом я уверена, потому что у нас, игрушек, просто нет больше никого. Семнадцатый рассказывал, что где-то там, вдали, есть какие-то «наши», но разве могут быть у игрушек «наши»? Вот и я думаю, что нет.
Я медленно выхожу за дверь в темный коридор. Что-то гудит, что-то шуршит, что-то сыпется, но мне это неважно, мне нужно найти поесть и посмотреть, не будут ли нас убивать немедленно. Может быть, просто поиграют, а в измельчитель не сунут? Я не знаю, поэтому стараюсь идти очень осторожно, но вокруг тишина. Я быстро задыхаться начинаю, приходится присесть на корточки, чтобы отдышаться. Аж точки перед глазами, и я их вижу, несмотря на синий неприятный для глаз свет.
Надо подняться и идти, потому что малышкам некому помочь, кроме меня, и я должна, просто обязана. Немного продышавшись и всхлипнув от прорезавшей грудь боли, я снова поднимаюсь, чтобы идти дальше по этим бесконечным коридорам. Сил нет никаких, как и мыслей, но… пока темно или почти темно – хозяев точно нет, они только при ярком свете бывают, поэтому мне надо… Очень-очень надо двигаться по темному. В крайнем случае спрячусь, потому что они плохо в темноте видят, почти и не видят совсем.
За поворотом что-то вроде бы шевелится, поэтому я иду медленнее, стараясь дышать не так шумно. Там точно кто-то есть, но он в темноте, потому есть шанс, что не увидит. Жалко, что я слабая четная, вот нечетный мог бы попытаться убить хозяина, как это одиннадцатый сделал. И вышло же! Жизнь спас четной… Хотя зачем? Ее все равно потом сломали так, что она три дня никак уйти не могла.
Я поворачиваю за угол, чтобы увидеть того, кто, возможно, оставит малышек совсем одних, но никого не вижу. Неужели мне показалось? Да нет, не может быть! Он наверняка спрятался, потому что для него слишком темно. Интересно, я убежать успею? Глупые какие мысли в голову лезут…
И стоит мне только так подумать, как что-то прикасается к моему плечу, заставив завизжать от ужаса и сразу же сжаться, ожидая расплаты за звуки без разрешения.
***
Я едва не теряю сознание от обуявшего меня ужаса, но он просто проводит пальцами по моему плечу, а потом заключает меня в круг своих рук, и ужас отступает. Что делает узнанный мной нечетный, я не понимаю, но он не ждет моего понимания, только отводит меня к какому-то креслу, усаживая в него.
– Успокойся, – говорит мне странно изменившийся Семнадцатый. – Хозяев здесь нет.
– А кто есть? – тихо спрашиваю я его, стараясь отдышаться.
– Ты есть, я есть, малышки, наверное… – он вздыхает. – Здесь почти нет еды и очень мало воды, поэтому надо что-то делать.
– Значит, мы умрем от голода и жажды? – не понимая, о чем он говорит, спрашиваю я.
– Нет, – качает головой этот невозможный нечетный. – Я выведу нас куда-нибудь, где есть наши. Ну или хотя бы похожие на них…
– Нашел время сказки рассказывать! – возмущаюсь я, но он останавливает меня.
– Малышки проснулись? – спрашивает Семнадцатый. – Давай тогда сначала устроим их поудобнее, затем накормим, а потом поговорим?