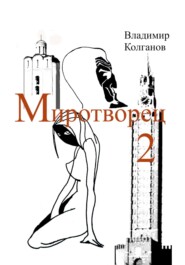По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Путь к счастью. Верить, чтобы жить
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Наука – лучший способ удовлетворения личного любопытства за государственный счёт».
Похоже, и Протасов, герой пьесы Горького «Дети солнца», придерживается того же мнения, причём, в отличие от Арцимовича, воспринимает его слова вполне серьёзно:
«Всё – живёт, всюду – жизнь. И всюду – тайны. Вращаться в мире чудесных, глубоких загадок бытия, тратить энергию своего мозга на разрешение их – вот истинно человеческая жизнь, вот где неисчерпаемый источник счастья и животворной радости!»
Иное отношение к творчеству у писателей-беллетристов, скульпторов и живописцев, поскольку любопытство тут явно ни при чём – радость доставляет сам процесс создания произведения искусства и сохраняющаяся до времени надежда сотворить нечто уникальное, неповторимое. Вот как рассказывает об этом один из персонажей романа Достоевского «Униженные и оскорблённые»:
«Если я был счастлив когда-нибудь, то это даже и не во время первых упоительных минут моего успеха, а тогда, когда ещё я не читал и не показывал никому моей рукописи: в те долгие ночи, среди восторженных надежд и мечтаний и страстной любви к труду; когда я сжился с моей фантазией, с лицами, которых сам создал, как с родными, как будто с действительно существующими; любил их, радовался и печалился с ними, а подчас даже и плакал самыми искренними слезами над незатейливым героем моим».
Плачь не плачь, но это никак не повлияет на судьбу произведения искусства – тут многое зависит от тех, кто имеет возможность представить произведение на суд широкой публики. Увы, нередко оказывается, что рукопись издательством отвергнута, а картины художника-новатора никому не интересны. Вместо того, чтобы в который уже раз сетовать по этому поводу, приведу фрагмент из романа «Покаянные сны»:
– Лиз, ты не права. Художник должен быть свободен. И никаких запретов, никаких заповедей типа "не убий", "не навреди". Да пусть своим искусством он даже кого-нибудь убьёт, зато может явиться миру нечто невиданное, невообразимое.
– Ну да, чтобы любоваться этим, сидя на толчке, – тощая, как игла, Лиз язвительна и неколебима. – Рома, рынку нужен ходовой товар. Есть спрос на Кандинского, Ван Гога, Модильяни… Ну а мазню твоего новатора кто будет покупать?
– Ты рассуждаешь, как лавочница. Ван Гог был гениален ещё до того, как его картины стали выставлять на аукционах Сотбис.
– Ну да, а умер в нищете. Кто виноват?
– Виновато время…..
– Вот-вот! Пригвоздим его к позорному столбу!
Но если случилось так, что ваша картина висит на стене в Третьяковской галерее, а книгу наконец-то напечатали – это ли не причина для радости? Так отреагировала и младшая дочь Льва Толстого на публикацию своих рассказов:
«Я была очень счастлива, когда мои тюремные рассказы… появились в "Пикториал Ревью". Йель Юниверсити Пресс приняло к печати мою книгу "Жизнь с отцом". Книга эта впервые была напечатана в Японии, и теперь она должна была появиться на нескольких языках и по-русски – в журнале "Современные записки" и в "Последних новостях", издававшихся в Париже».
Приятно перечислять издательства и журналы, где напечатали твоё творение, однако проходит время, и публикация новой книги прежнего восторга уже не вызывает, а вот радость творчества остаётся навсегда.
Весьма своеобразно выразил своё отношение к творчеству Константин Паустовский:
«Когда в сознании писателя рождается книга, он испытывает такое же чувство приближающегося неизбежного счастья. Ещё всё неясно… Ещё сознание заполнено перекличкой отдельных слов, мыслей, образов, сравнений, но сквозь всё это уже возникает даль свободного повествования».
На самом деле, в сознании возникает замысел, а до рождения книги ещё очень далеко – впереди долгий, мучительный процесс поиска сюжета, интересных образов. Но временами и впрямь возникает та самая «даль свободного повествования», когда мысли и образы словно бы сами просятся на бумагу – это и есть ключевой момент, вслед за которым наступает счастье…
Но вот когда книга уже вышла в свет, нередко появляются сомнения: зачем потратил столько времени на создание романа, если можно было распорядиться этим временем более разумно? Такую мысль Лев Толстой выразил в письме Афанасию Фету:
«Как я счастлив… что писать дребедени многословной вроде "Войны" я больше никогда не стану».
Если учесть, что, написав «Войну и мир», Толстой заработал немалый капитал и прославил своё имя, это его ощущение вполне понятно – теперь уже нет необходимости писать нечто «эпическое», что привлечёт к нему внимание людей. Теперь можно писать то, чего требует душа – вслед за «Анной Карениной» Толстой увлёкся созданием своего философского учения, надеясь таким образом способствовать переустройству окружающего мира.
Писатель не может не писать, хотя бы потому что нужно зарабатывать семье на пропитание. И даже если не пишешь «дребедень», такая работа не всегда вызывает удовлетворение. Вот и Тригорин в пьесе Чехова «Чайка» вынужден признаться в разговоре с Ниной Заречной, что не в восторге от своей судьбы:
«Вы вот говорите об известности, о счастье, о какой-то светлой, интересной жизни, а для меня все эти хорошие слова, простите, всё равно что мармелад, которого я никогда не ем… Едва кончил повесть, как уже почему-то должен писать другую, потом третью, после третьей четвёртую… Пишу непрерывно, как на перекладных, и иначе не могу. Что же тут прекрасного и светлого, я вас спрашиваю? О, что за дикая жизнь!»
Тут есть и сожаление о том, что не имеет в своём распоряжении обширного поместья, и признаки лукавства, даже лицемерия. Судя по всему, уж очень много сил пришлось истратить на восхождение к известности, к популярности среди широкой публики, а тут ещё поклонники не дают ему покоя:
«Разве мои близкие и знакомые держат себя со мною, как со здоровым? "Что пописываете? Чем нас подарите?"»
Признание Тригорина перекликается с тем, что Пушкин в повести «Египетские ночи» написал о Чарском:
«Он был поэт, и страсть его была неодолима: когда находила на него такая дрянь (так называл он вдохновение), Чарский запирался в своём кабинете и писал с утра до поздней ночи. Он признавался искренним своим друзьям, что только тогда и знал истинное счастие. Остальное время он гулял, чинясь и притворяясь и слыша поминутно славный вопрос: не написали ли вы чего-нибудь новенького?»
А между тем, Тригорин продолжает монолог:
«Одно и то же, одно и то же, и мне кажется, что это внимание знакомых, похвалы, восхищение, – всё это обман, меня обманывают, как больного, и я иногда боюсь, что вот-вот подкрадутся ко мне сзади, схватят и повезут, как Поприщина, в сумасшедший дом. А в те годы, в молодые, лучшие годы, когда я начинал, моё писательство было одним сплошным мучением. Маленький писатель, особенно когда ему не везёт, кажется себе неуклюжим, неловким, лишним, нервы у него напряжены, издёрганы; неудержимо бродит он около людей, причастных к литературе и к искусству, непризнанный, никем не замечаемый, боясь прямо и смело глядеть в глаза, точно страстный игрок, у которого нет денег».
Но вот писатель находится в зените славы, и неизбежно возникает вопрос – Нина Заречная задаёт его Тригорину:
«Позвольте, но разве вдохновение и самый процесс творчества не дают вам высоких, счастливых минут?»
Тригорин отвечает:
«Да. Когда пишу, приятно. И корректуру читать приятно, но… едва вышло из печати, как я не выношу, и вижу уже, что оно не то, ошибка, что его не следовало бы писать вовсе, и мне досадно, на душе дрянно…»
Пожалуй, и здесь присутствует лукавство – Тригорин кокетничает с красивой девушкой, стараясь возбудить к себе сочувствие, а там, кто знает, дойдёт и до любви… Вот тогда для него может наступить подлинное счастье, ради которого и приходится работать буквально на износ. Всё ради того, чтобы «пожинать плоды» – смысл творчества, побудительный мотив Вагнер раскрывает Фаусту в философской драме Гёте (перевод Бориса Пастернака):
Как вы любимы деревенским людом!
Большое счастье – пожинать плоды
Способностей, не сгинувших под спудом
Вы появились – шапки вверх летят,
Никто не пляшет, поражённый чудом,
Вас пропускают, выстроившись в ряд,
Ещё немного, – позовут ребят
И станут перед вами на колени,
Как пред святыней, чтимою в селенье…
Но вот вопрос, на который нет однозначного ответа: можно ли совместить творчество с семейным счастьем, с заботой о семье? О своих сомнениях Е.М. Хитрово написала Пушкину:
«Прозаическая сторона брака – вот чего я боюсь для вас! Я всегда думала, что гений поддерживает себя полной независимостью и развивается только в беспрерывных бедствиях, я думала, что совершенное, положительное и от постоянства несколько однообразное счастье убивает деятельность, располагает к ожирению и делает скорее добрым малым, чем великим поэтом… Я размышляла, боролась, страдала и наконец достигла того, что сама теперь желаю, чтобы вы поскорее женились».
И вот что отвечал ей Пушкин:
«Что касается моего брака, то ваши размышления о нем были бы вполне справедливы, если бы Вы обо мне судили менее поэтически. На самом деле я просто добрый малый, который не хочет ничего иного, как заплыть жиром и быть счастливым. Первое легче второго».
По сути, поэт уходит от ответа, сводя всё к шутке. Тут следует учесть, что во времена Пушкина в дворянской среде не приветствовались внебрачные связи, к тому же он был так влюблён, что не задумывался о том, может ли женитьба повлиять на его творчество. Но судя по тому, что наиболее плодотворно Пушкин работал в Болдино, вдали от семьи, женитьба в какой-то степени стала обузой для поэта, поскольку приходилось заботиться о пропитании жены и детей. Немудрено, что критики писали о конце эпохи Пушкина в отечественной литературе. Поэт, бунтарь, отец семейства – в одном человеке это трудно совместить.
Ещё труднее совместить в одном человеке, к примеру, математика, художника, поэта, но такие примеры есть, что совсем не удивительно. Если основной интерес в жизни заключается в получении удовольствия от творчества, тогда, по сути, всё равно, чем заниматься. Фундаментальная или прикладная физика, цифровая схемотехника или разработка программного обеспечения, а «на закуску», то есть для души – живопись или литература. Это вовсе не значит, что любой человек с лёгкостью необыкновенной должен менять профессию или увлечения, однако так и надо поступать, если есть способности, а цель состоит в том, чтобы радоваться жизни.
Глава 5. Удивительное чувство