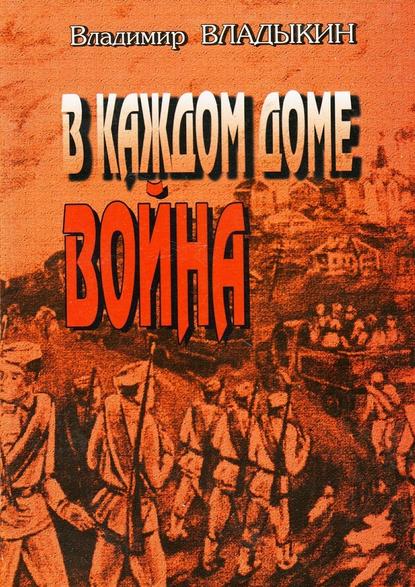По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В каждом доме война
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Тихо, тихо, а то идут уже, – быстро шепнула мать.
Немцы в коридоре обивали с ног снег, подняв грохот, как на плацу. Анфиса прилегла на подушку, не желая думать о том, как они лезли к ней под юбку, и её вновь окатили эти воспоминания жгучим стыдом, вызвав оторопь. Именно это она испытала недавно, приготовившись к самому худшему, как к неизбежному. И она подумала, что, наверное, в этот вечер ни одна их девушка не избежала домоганий немецких солдат. Вот и Гордей испугался за Ксению. Ревность наполнила душу смелостью, и он, пренебрегая опасностью, умчался к ней…
Аглая открыла сундук, достала старую библию, которая перешла к ней от отца-священника, у него было много разных церковных книг. Часть он сберёг, а большая часть была уничтожена при обыске чекистами; они изъяли и образа святых апостолов, Иисуса Христа, Божьей матери, девы Марии. Одну икону Николая угодника Аглая спасла уже после смерти отца и взяла её в дорогу, но на новом месте жительства, за Доном, не вывешивала в святой угол, боялась властей. Ведь это было страшное время гонений за веру, разрушение храмов и церквей, уничтожение служителей религии…
Аглая изредка доставала святое писание, читала иной раз вслух детям, чего те сами не делали. Но стоило услышать за двором чужого человека, как она быстро накрывала книгу бархаткой вишнёвого цвета и совала её под подушку. Особенно боялась Елизара Перцева, их соседа, ставшего тогда членом правления колхоза, которого, впрочем, остерегалась ещё до этого.
Перцевы приехали из Липецкой губернии чуть раньше Путилиных; как и они, тоже заняли освободившуюся хату. О прежних хозяевах они не интересовались, так как уже знали – любопытство у людей стало вызывать нехорошее подозрение. Елизар, крупнокостный, высокий мужик, был помимо любопытства нагл, своекорыстен, завистлив, всегда затрагивал Аглаю, блудливо смотрел на неё, хотя его жена Агния была крепкотелая, ядрёная женщина, собственно, подстать Елизару, хваткому, жадному до работы. И вот, пришла на их двор перед приходом немцев похоронка, что будто Елизар погиб. Аглая думала, мол, такие – как дубы, вечные, потому не верилось в его гибель. Да и Агнию неслышно было, чтобы голосила по мужу, как другие бабы. У неё три дочери: старшая – Нюра, младшая Валя, а средняя – Катя, которая по дороге в низовье Дона отстала, сойдя с поезда, чтобы проведать в станице Вёшинской бабушку (мать Елизара) с тёткой, и у них, говорили люди, осталась на воспитание, так как тётка была бездетная учительница. И был сын Андрей, ростом с отца, а мастью – в тёмно-русую мать.
Буквально за день до прихода немцев Андрею пришла повестка в армию. Но не успел уйти, за ним никто не приехал. А Макар Костылёв не стал брать на себя ответственность за отправку парня в военкомат, встречавшегося с соседской девчонкой Надей Крынкиной.
Аглая среди баб выглядела тихой, незаметной; веселиться она не то что бы не умела, а просто когда-то суровое время, нескладная личная жизнь наложили на неё неизгладимый отпечаток. Да и после потери мужа она уже не думала о себе: как бы детей вывести в люди. И сейчас она думала только о сыне, отсутствие которого немцев пока не занимало, и она была почти спокойна. Впрочем, они были пьяны, наверное, им тоже война не в радость или мужикам-иностранцам хочется выпить. И то верно, чаще всего люди пьют не от горя, а ради удовольствия. И немцы вовсе не исключение. Аглая стала читать библию, которая всегда её отвлекала от тягот жизни и заряжала терпением перед всеми невзгодами. Сейчас ей так хотелось напомнить немцам о Боге, или у них тоже отреклись от веры во Всевышнего? А Спаситель будет судить всех по делам их. Однако страх быть неверно истолкованной в своих намерениях вновь заставил её спрятать библию в сундук. Немцы даже не глянули в её сторону. Один даже чуть ли не падал, и его поддерживали товарищи. В дверь они еле протиснулись, повторяя громко: «Гуд бай, гуд бай, матка!»
Аглая немного понимала по-ихнему, поскольку училась в гимназии. А потом у них на Урале немцы-промышленники хозяйничали: «Скорей бы уже спать ложились, антихристы, и охота болтаться по чужой земле, и чего им тут надо, своих богатств всё мало, а у нас какие богатства здесь, а где полезные ископаемые есть, туда они не дойдут – выдохнутся. Ведь русская земля большая».
Вот немцы показались с улицы и быстро завернули ко двору, вот прошли в горницу. Аглая перекрестилась. Она увидела, что дочь уже тихо спала на полу. Немцы в другой горнице заняли обе кровати. Сначала что-то бормотали, впрочем, говорили о городе, что кого-то повезут туда. Там будет у них концлагерь для военнопленных и аэродром для полётов их самолётов на Северный и Южный Кавказ и на Сталинград. Кажется, мало-помалу они успокоились, и Аглая облегчённо вздохнула. Теперь надо идти искать сына, ведь немалое дитя, а вынуждает мать волноваться. Как же так, за весь вечер о Никоне, ушедшем на фронт, Аглая даже не вспомнила. В последнем письме он весьма скуповато сообщал, что бои ведутся за Харьков, который после, однако, уже был взят фашистами, рвавшимися теперь оголтело к Москве. Но уже давно свежих новостей к ним не поступало о том, что происходило на фронтах…
Глава 11
В некоторых хатах ещё горели огни, была даже слышна немецкая речь. От снега, расстилавшегося белым полотном, хорошо видна дорога, а когда долго находишься на улице, темень как будто отступает, пространство расширяется. Да ещё сквозь облачное небо проглядывает тусклая луна, похожая на хорошо вычищенную крышку от алюминиевой кастрюли. Облака куделью, как распущенная белая пряжа, смещаются куда-то на восток к займищу, где слышалась частая орудийная стрельба. Гордей шёл под самыми дворами, слыша в хатах немецкую речь. Он ощущал гулкое биение своего сердца. Во дворе Крынкиных Гордей услышал придушенный смех Нади, хорошенькой пухлощёкой девушки, за которой бегал их общий сосед Андрей Перцев. Но говорили, что мать Нади ярая баптистка, у себя на родине пострадала за веру, а отец так даже был арестован. Надя казалась немного шаловливой или несколько бесноватой девчонкой, не слушавшейся матери, за что та всерьёз обвиняла её, как одержимую дьяволом. Однако в клуб Надя не ходила из жалости к матери, у которой росли ещё две меньшие дочери.
Гордей спешил к Ксении, двор которой от ихнего был четвёртым. Он остановился, прислушался: вдали по дороге шли две фигуры, облачённые в солдатские шинели: то двигался немецкий патруль. Гордей пожалел, что не пошёл огородами; он шмыгнул в деревянную калитку; побежал к глухой стене хаты Глаукиных, куда свет плохо пробивался сквозь оконное затемнение.
У Глафиры Глаукиной на фронт ушли два сына: старший Василий и младший Иван да муж Касьян. Она осталась с дочерьми, с Ксенией и почти годовалой Клавой. Мать Татьяна уже часто болела, но ещё что-то делала по дому. Глафира работала в яслях воспитательницей и няней.
Когда к ним ввалились немцы, Глафира, естественно, испугалась, ведь в доме ни одного мужчины, чтобы за них заступиться. Хотя понимала: разве кто-то может противостоять вооружённым до зубов немцам? В первый же вечер они полезли в курник, и зарубили двух кур, велев ей обработать и приготовить. На дочь Ксению пялились, подходили, заговаривали, но пока не трогали. Их было четверо, какие-то рыжие, страшные, с длинными носами, и отчего-то постоянно ржали. Заставили Ксению им прислуживать и озорно шлепали по ягодицам. Потом брали за руки и тут же с грубым смехом бесцеремонно отталкивали, велев ей сходить в баню…
Гордей ничего не мог хорошо разглядеть в окно со стороны палисадника, так как обычные занавески были задрапированы чем-то ещё. Однако в одну щелку он всё-таки увидел ходившую в передней горнице тётку Глафиру. А Ксении как будто в хате не было, тогда он пошёл вдоль глухой стены, завернул за угол и стал смотреть в хату со стороны огорода, на который выходило два окна. На них висели цветные занавески, поверх которых он ясно видел при свете керосиновой лампы бабу Таню, сидевшую у печи, затем узрел Ксению за столом, державшую сестру. Гордей слегка постучал по стеклу, и Ксения тотчас услышала, – выразительно, в оторопи посмотрев на него. Гордей махнул ей рукой, чтобы вышла к нему. Девушка указала взглядом на сестру, что не может оставить её. Мать увидела странное поведение дочери, она подняла глаза на окно, где пропала чья-то голова в шапке-ушанке.
– Кто это? Нечто Гордей? Ох, батюшки, нашёл время! – Ксения промолчала. – Давай мне ребёнка, а ты выйди – узнай, что он, с какой вестью пришёл? – шепнула Глафира Терентьевна, принимая дочурку.
Ксения быстро надела доху, накинула платок (хорошо, что немцы закрыли проём в ту горницу солдатским одеялом и там галдели по-своему, играя в карты) и, тихонько ступая, пошла в сени, стараясь не греметь щеколдой.
Гордей уже стоял при входе, и вдруг быстро потащил за руку Ксению в сторону огорода. Тихо шёл снег, снежинки белили её чёрную доху, тогда как парень был весь в снегу.
– Ну, ты чего, Гордей совсем меня не уважаешь, заставляешь краснеть перед мамкой. А бабка смеялась, – заговорила шёпотом она.
– У вас много немцев – четверо? А у нас пятеро, все мордатые! Жалко, что некуда нам убежать. По улице патруль ходит. Ты как чувствуешь себя при них?
– Да как можно чувствовать – ясно, что очень плохо. К тому же лезут… но ничего – терплю. Хозяйничают, уже кур потрошат – наглые!
Гордей привлёк молча девушку, обнял, стал целовать влажную и прохладную от снега щеку.
– Да, какие шакалы! Скорей бы их погнали. Ты слышишь, где-то бабахают, может, идут наши полки, – сказал он, трясясь от холода.
– Ты куда меня тянешь? К скирде – зачем? Что, неужели мы спрячемся от них в соломе? – засмеялась Ксения, начиная упираться.
– Я не допущу, чтобы ты им досталась, я этого не выдержу и что-нибудь сделаю с ними. Ты смотри, перед ними не наряжайся, – нервно говорил Гордей.
Возле скирды с заветренной стороны, он принялся делать нечто дупла, а девушка стояла в ожидании, при этом поглядывая по сторонам. Впереди до самого горизонта простиралось голое заснеженное поле, лаяли глухо и отрывисто собаки. Снег продолжал идти умеренно, как-то задумчиво, снежинки, кажется, повисали в серо-фиолетовом небе и будто на одном месте кружились. Ксения не чувствовала холода, она была готова остаться здесь с Гордеем навсегда, вернее, пока немцы не уберутся восвояси. Но сами они теперь ни за что не уйдут, пока наши не выбьют их из посёлка, а это вероятно произойдёт не скоро, так как армия должна собрать достаточно сил для изгнания врага.
Слова Гордея о том, что он не допустит, чтобы она досталась оккупантам, Ксения расценила двояко. Он не допустил бы надругательства немцев над ней, которое недавно она так явственно представила, отчего испытывала леденящий ужас, что это может случиться дома во время их пьяного шабаша. А ещё немцы могли увезти в Германию и тогда бы они с Гордеем никогда бы не увиделись. И когда он сейчас с такой неудержимой рьяностью начал готовить для неё убежище, это выглядело по меньшей мере трогательно, а по большому счёту – наивно. Ведь они и здесь найдут их, уж тогда лучше совсем уйти из посёлка. Пока она так рассуждала, он вырыл в скирде большое отверстие, похожее на вход в пещеру.
– Давай лезь скорей сюда, – услышала она. Ксения оглянулась на хату, и ей померещилось, будто там кто-то смотрит на неё, и ей стало от этого жутко. Она пригнулась, потом на коленях вползла в черное логово, а Гордей ловко перелез через неё и загородил вход соломой. И стало совсем темно: они не видели друг друга. Но зато было ощущение безопасности. Она инстинктивно прильнула к парню, чувствуя, как гулко бьётся его сердце, как его рука проникает к ней под доху, отчего сердце замирает в сладком дурманящем ознобе и в глазах наступает тяжесть, они непроизвольно закрываются, хотя она и без этого ничего бы не увидела. Гордей подминает её под себя и целует, целует долго в губы, а рука слегка сдавливает упругую грудь и от каждого его движения ещё больше приливает к лицу тяжесть. А им овладевает сущее нетерпение и она плохо понимает, что всё это значит; он без конца тревожит её, теребит грудь; и она почувствовала себя полураздетой, удивительно без ощущения холода, напротив, её обдаёт жар с ног до головы. И она с радостью думает, что сейчас такое время для неё, когда это не страшно, когда можно избежать нежелательных последствий. Собственно, теперь нечего ей терять, уж лучше любимый парень, чем враги, но ей было стыдно так думать и она боится, что Гордей это тоже имел в виду. Да-да, он имел в виду это, от сознания чего её сердце пронзала жалость, что она сразу согласилась на такой шаг, на какой в другое время она бы ни за что не отважилась с лёгкостью падшей женщины. И когда это произошло, Ксения себя возненавидела и расплакалась. Почему она вообразила, что немцы хотели это сделать с ней? Может, она просто поспешила, а Гордею теперь будет противна?
– Вот и хорошо, с этой минуты мы с тобой обвенчаны, – заговорил он. – Я как никогда спокоен. Ты молодец, Ксюха, только успокойся, ведь я тебя безумно люблю, – с этими словами он сильно обнял её и поцеловал в мокрые губы – это слёзы смочили их. Она облегчённо вздохнула, поскольку его слова успокоили опасения Ксении. Однако ощущение досадной, преждевременной потери всё продолжало её страшно будоражить, так как вместе с девственностью она утратила прочную веру в своё будущее, которое отныне она уже не мыслила без него. Но Гордею предстояло ещё идти служить в армию, чем она уже не раз омрачалась, так как с его уходом, казалось, от них уйдёт и любовь. А разлука заполнит сердце. И тогда больше ничто не повторится, впрочем, уже сейчас их первая близость не вернётся в точности во всей гамме сладостных и страшных переживаний. И она была безмерно рада, что, наконец, доставила ему удовольствие собой, что отныне они, как он говорил, повенчаны в такой необычной и в чём-то романтической обстановке. И даже создавалось впечатление, будто войны нет вовсе, они забылись от страшной реальности, сознание о которой возвращает их из любовных грёз в этот столь беспощадный и суровый мир. А как хотелось, чтобы их страстные, горячие минуты ни на час, ни на день не уходили, чтобы они остались с ними навеки.
Ксения откликалась на его ласки, замирала в его объятиях, словно это их последняя встреча, что больше их свиданий не будет. И они действительно не знали, как судьба распорядится ими завтра.
– Может, так до утра просидим здесь? – спросил важно Гордей.
– Мне никак нельзя, милый, маманя в обморок упадёт. А вообще, я бы с радостью совсем убежала отсюда… с тобой… хоть на край света, только бы их не видеть…
Глафира Терентьевна, укладывая дочь спать в зыбку, думала о Ксении: где она могла с парнем сидеть? В летней кухне холодно, значит, на морозе стоят и согреваются друг другом: по себе это знала, когда любишь, и мороз почти не пробирает. Но вот послышались шаги: из сеней потянуло сильней холодом. Это Ксения идёт – легка на помине. Вот в дверь тихо прошмыгнула. А глаза почему-то стыдливо прячет, нечто грех уже поимела с парнем…
– Что так долго, охота на морозе? – тихо, ненастойчиво спросила мать.
– Хорошо как, на улице – снежок идёт, – ответила сдержанно Ксения.
– Тебя они спрашивали – сказала, что ты в туалет пошла! – и Глафира Терентьевна покачала в досаде головой. – Кажется, улеглись, вдрызг нализались, окаянные, тьфу!
Ксения сняла доху; пока шли от скирды, Гордей отряхивал с неё солому. А в русых волосах, золотой нитью, всё-таки запуталась одна. И сейчас на неё в испуге молча уставилась мать, а потом, волнуясь, опустила глаза, боясь встретиться с взглядом дочери. Вот почему так странно смотрела на неё, вот почему у самой на душе было смутно, пока отсутствовала дочь… Но ей так ничего и не сказала, лишь на лбу тугой думой собрались складки морщин. А бабушка Таня мыла у печи посуду немцев, взглядывая на внучку, как у неё с холода пылали яблочным румянцем щёки и как украдкой что-то искала глазами в горнице. Она тоже увидела в волосах внучки соломинку и легонько поманила её рукой. Ксения заметила неотрывный взгляд бабушки, на которую сейчас в душе злилась, и от волнения у неё заслезились глаза и набежали непрошеные слёзы. Бабушка повторила свой жест и тогда Ксения подошла к ней, полагая, что она скажет, как усмирила немцев своей заговорной молитвой, чему, бывало, подучивала внучку. Однако бабушка велела наклонить к ней голову и вытащила из её волос соломинку, при виде которой Ксения покраснела, а бабушка заговорщически подмигнула. Глафира Терентьевна сбоку от стола смахивала с клеёнки крошки и кожуру картошки, и краем глаза видела всю эту сцену, решив не донимать дочь расспросами. Пусть сама отвечает за свой проступок, если считает, что у неё просто не было иного выхода, а может, это всё к лучшему: понесёт ни от кого-нибудь, а от любимого парня. Война всегда ускоряет любовь, что-то с людьми в такой момент происходит непонятное – все ограничения побоку и стыд не в стыд, а любовь просветляет чувства, укрепляет отношения. Всё это она познала на своём опыте…
– Чаевничать будешь? А то всё убрала, – спросила мать как ни в чём не бывало.
– Не хочу, лучше пойду спать, – ответила Ксения, посмотрев на сестру, спавшую с раскинутыми ручонками и с согнутыми ножками, причмокивая во сне розовыми, влажно блестевшими губками.
Незадолго перед войной отец построил баньку, примыкавшую к сеням. Однако из-за нехватки дров в ней мылись редко. Она была выстроена из ракушечника, просторная, как горница, с двумя окнами. Летом в ней спали братья. И сейчас Ксении захотелось уйти в баню, но там было очень холодно. Зато имелся тулуп, в который можно завернуться двоим. В горнице стояли две кровати: на одной спала Ксения с бабушкой – на второй – мать; отец тоже спал один, а братья – вдвоём в той же горнице, где сейчас дрыхнули немцы. Когда она бывала в клубе, а братья служили в армии, родители спали вместе, тогда как при всех детях – в разных местах. На родине изба была довольно просторная, с отдельными спальнями, они так удобно размещались, что никого не стесняли. А тут из-за недостатка строительных материалов хаты получались скромней, с двумя горницами и сенями. Вот и приходилось тесниться и стеснять друг друга.
– Я спать пойду в баню, – вдруг сказала она, помня, как немец посылал её туда вымыться, чтобы потом ею забавляться. Но она и без них знала, что после работы на ферме не помешает освежиться. А сейчас она об этом не думала, так как усталость валила её с ног. И вдобавок хотелось побыть наедине и собраться с мыслями к завтрашнему дню. Она знала, что Гордей сейчас находится в мыслях с ней, Ксенией. И она на время пожалела, что не предложила ему ночёвку в бане и сама не устыдилась своего желания, чего раньше с ней не происходило. Неужели уже привыкла к первому греху, и он уже не кажется ей чем-то постыдным, а наоборот, влекущим, притягивающим опять к себе, как магнитом.
– Там же холодно? – удивлённо спросила Глафира Терентьевна, глядя смущённо на дочь.
– Ничего, а в хате слишком мне жарко, я тулуп возьму, – и Ксения пошла в сени, где висел тулуп. Её обдало холодом, она нащупала грубошёрстную овчину и сняла её. Сбоку деревянного ларя дверь вела в баню, куда спускались две ступени. Здесь был сколочен жёсткий топчан, покрытый тюфяком, а под ним шелестело сено. В окошко, выходившее на огород, сеялся бледный свет. Ксения услышала шум. Вошла мать, освещая себе путь керосиновой лампой. Здесь, за печкой, в мешках хранилось зерно, на столе стояла сальная свеча, которую от лампы зажгла мать. В бане хранилась и макуха, и отруби, и всем этим пахло вперемешку с пылью и сеном.
– Неужто в хате нет места? – спросила Глафира Терентьевна, взяв тулуп, прижав к себе, чтоб хоть немного согреть его собою.
– Мама, ступай себе, я сама знаю. Противно мне от одной мысли, что они там, – и пожав плечами, Глафира Терентьевна молча ушла. А Ксения вскоре легла с новым для себя чувством, что стала женщиной, почти не ощущая холода…
Часть вторая
Глава 12
Над посёлком Новым неспешно занимался рассвет, словно нарочно тянул время, тем самым давая людям хорошенько обдумать своё поведение в условиях оккупационных властей. Однако над хатами уже вовсю курились серыми дымами трубы. Небо казалось ещё иссеро-фиолетовым, застывшим; на востоке оно отливало как бы жидким серебром. И снег шёл нехотя: снежинки кружились, зависнув на какое-то время, а потом их подхватывал набегавший ветерок и лёгкой метелицей вращал над землёй, создавая сумеречную видимость бесконечно тянувшегося степного пространства. За ночь снегу насыпало порядочно, немецкая техника сливалась с заснеженной землей. На улицу из хат выскакивали голые по пояс немцы, дерзко, игриво обсыпали друг друга сухим, рассыпчатым, как мука, снегом, издавая звонкоголосое чужеземное ликование…
Хаты издали, казалось, этак настороженно, зябко нахохлились соломенными или чаканными кровлями. Через некоторое время от клуба, по ту сторону улицы, поехала небольшая бронированная машина, из которой в громкоговоритель, на ломанном русском языке с акцентом, мужской голос призывал население посёлка собраться на поляне для ознакомления с новым германским порядком. Бронетранспортёр объехал всю улицу по обе стороны балки…
Солдаты, при полном боевом снаряжении, выходили из хат и потянулись к своей комендатуре, размещавшейся в школе. Люди, видя такое дело, что немцы уходят от них в полной воинской амуниции, не оставляя в хатах никаких вещей, про себя радовались, что они как будто покидают их совсем, хотя некоторые солдаты говорили, и что они к ним ещё вернутся, или просто так шутили. А бабы даже крестились: кто открыто, кто украдкой, словно изгоняли из дворов нечистый дух…