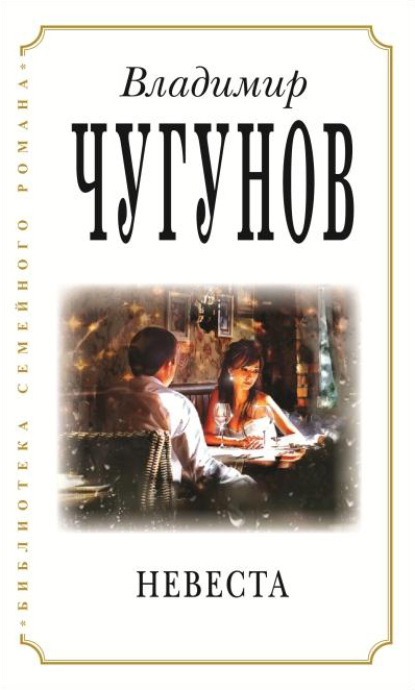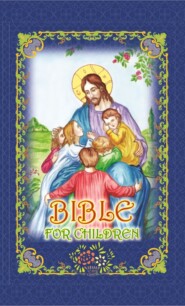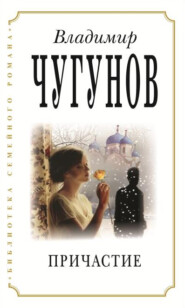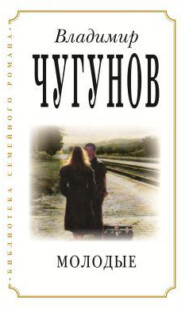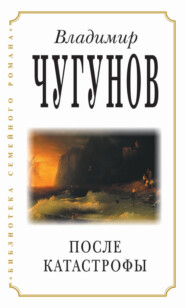По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Невеста
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И уже ничего не оставалось, как только махнуть на него рукой.
Когда вышли из подъезда, прежде чем расстаться, на мгновение глянули друг другу в глаза. И так получилось, что именно на Пашеньке задержал Виктор свой любопытный взгляд, что-то как бы для себя отметил, но тут же нахмурился, сказал «до свидания» и, на ходу надевая меховые кожаные перчатки, не оглядываясь, зашагал по переулку направо; остальные повернули налево.
4
Заботливо придерживая Катю под руку, Савва Юрьевич завёл речь о своём недавнем бенефисе, излагая, однако, совсем не так, как было на самом деле, а так, как выгоднее всего было теперь подать – культурно, чинно, умеренно. На самом деле всё было некультурно, бесчинно и неумеренно, ибо «друзья мои, – заявил он на том бенефисе, – я уважаю Пушкина за его беззаветную преданность гарему! Вы не ослышались, друзья мои, гарему! Перечитайте «Бахчисарайский фонтан» – и вы всё поймёте! А «Я вас любил…» – по-вашему, что означает? Не знаете? А я вам скажу. Борьбу головы с сердцем! Но, дороже мои, – продолжал он на том бенефисе, – когда сердце испорчено, голова не имеет права задумываться! Я не против испорченного сердца, но я против задумчивой головы! Вы хотите знать, почему… А я вам отвечу. Потому что не «княжна» владеет соромным мужем, а русалка. Да-да, дорогие мои, русалка! И не простая, не обыкновенная. Ибо есть русалки обыкновенные, а есть русалки необыкновенные. Необыкновенные – это те, которые утопились в монастырском пруду. Я кто, в таком случае? Нет, не монастырского пруда лешак, потому что ещё не утопился, и, видимо, не утоплюсь никогда…»
Из нынешнего же изложения выходило, что скромно выпили по чашечке кофе и около часа читали замечательные стихи, пели старинные романсы и говорили друг другу одни любезности.
Катя, не обращая внимания на его болтовню, всю дорогу сначала прислушивалась к новой жизни в себе, к которой прислушивалась постоянно, потом думала о сестре. Разумеется, она заметила впечатление, которое произвела Пашенька на Виктора, и почти не сомневалась в успехе, правда, прибавляя по-прежнему, если только «звезда эта не помешает». Павла она в расчёт не брала.
Но именно о нём всю дорогу думала Пашенька. И не только, но и невыносимо страдала от того, что так прозаично, в одночасье рухнула её заветная мечта. Боже, чего только она себе, глупая, не воображала – и вот… Но главное письма – кому они теперь нужны? И всё же где-то в глубине души ещё теплилась слабенькая надежда, поддерживаемая как бы вскользь обронёнными на что-то неустроенное в его теперешней жизни намекающими «вроде как».
И так добрались до дома.
– Что вы остановились, Савва Юрьевич? Ещё не поздно, заходите, чаем напоим, – предложила Катя.
Но Савва Юрьевич и не думал уходить и только для приличия сделал вид, что колеблется.
– А котлетку дадите? Катя посмотрела на Пашеньку.
– Остались у нас котлеты?
– Фарш. Да я мигом нажарю. И холодец, должно быть, застыл!
У Саввы Юрьевича даже невольно вырвалось:
– Как – холодец? Настоящий холодец?
– Из свиных ножек, – подтвердила Катя.
– Не может быть!
– Может, Савва Юрьевич, может.
– И кто постарался?
– У нас теперь одна стряпуха, – вздохнула Катя. – Нет, конечно, и я помогала, – добавила она, заметив недовольное движение сестры, – но больше советами.
Когда вошли в квартиру и разделись, Катя предложила Савве Юрьевичу пройти в зал, а сама следом за сестрой ушла на кухню.
Вскоре в воздухе послышались шум и запах жареных котлет, в зале на столе появились холодец, ржаной хлеб, горчица. Не хватало только водки, но Савва Юрьевич на этот раз, так сказать в ответственный момент, не решился попросить, и это на него было не похоже.
Они только поужинали, попили чаю и прибрали со стола, как раздался звонок.
Катя пошла открыть. Так как дверь из зала выходила в прихожую, и Пашенька, и Савва Юрьевич сразу увидели ту самую «звезду», которую меньше всего хотела видеть у себя Катя, следом за ней втиснулся ещё кто-то.
«Звезда», то бишь Ольга, была в норковом полушубке, в тёмной шерстяной чуть ниже колен юбке, но особенным шиком, конечно, была копна распущенных и раскиданных по плечам курчавых светлых волос.
Расстегнув пуговицы полушубка, Ольга позволила невидимым рукам его принять и пристроить на вешалку. Глянув на себя в зеркало, висевшее на стене, она что-то промокнула носовым платком под глазами, изящным движением тронула копну волос и ослепительно вошла в зал. В её облике было что-то такое, что поражало с первого взгляда. Позже, при внимательном изучении, можно было найти и недостатки и даже прийти в недоумение, что же, собственно, так поразило, но стоило начать общаться, как все эти недостатки тут же превращались в только ей одной присущие достоинства.
– Представляешь, Кать, только что у вас была, – заговорила она с той непринуждённостью, с которой говорят чаще на сцене, чем в обыденной жизни. – Из театра забежала на минутку к себе и сразу к вам. Звоню – никого. Приезжаю в мастерскую, Илья говорит: «С полчаса как ушли». Зря, стало быть, моталась. Хотя как сказать, – обернулась она на дверь, за которой кто-то, не показываясь на глаза, продолжал копошиться. – Не надо на меня так смотреть! – перехватила она любопытный взгляд Саввы Юрьевича. – Почему вам можно, а мне нет? – небрежно скользнула она по Пашеньке взглядом, очевидно, на что-то только одному Савве Юрьевичу понятное намекая, и крикнула: – Эй, «вагонообожаемый, вагоноуважатый» – ты где? – И когда что-то вроде Вани, зачем-то прежде выключившего в прихожей свет, появилось на пороге, изящно махнула рукой: – Вуаля!
Она присела к столу и с нескрываемым любопытством смерила Пашеньку взглядом.
– Здравствуйте, – смущённо кивнула в ответ на её любопытный взгляд та. – Хотите чаю?
– И когда Ольга, обезоруженная таким обращением, с усилием над собой кивнула, обронила: – Сейчас принесу, – и вышла на кухню.
Ольга перевела взгляд на Катю.
– Кто это? Катя сказала.
– Ах, во-он оно что! А я подумала… – покосилась она опять на Савву Юрьевича.
Но тот, как сама невинность, потупил очи. Ваня, пройдя боком в зал, присел подальше от стола на край тахты. Катя стояла, держась за спинку стула.
Когда вернулась с чайниками в руках Пашенька, Ольга в знак извинения, на театральный манер опять-таки, приветливо ей улыбнулась.
Попытался втиснуться в происходящее со своей осторожной улыбкой Савва Юрьевич.
– Не сметь! – тут же сурово осадила его Ольга.
– Но… я так давно тебя не видел… – пробормотал тот, будто в чём и впрямь извиняясь. – И потом… обрати внимание, как этот молодой человек на тебя смотрит. А вот я так, – и, с видимостью горечи, заключил: – уже не умею.
– Ошибаетесь, Савва Юрьевич: ему не можно, – не без ехидства заметила Катя.
Савва Юрьевич приподнял брови.
– Не можно? Почему?
– Сам говорил.
Ольга в удивлении на Ваню глянула:
– Правда?
– Говорил! – возмущённый до глубины души такою наглостью, ответил Ваня. – Да только не о себе, а об Агафье!
– О ком?
– Агафье. Лыковой. Когда ей намекнули на замужество, она ответила: «Мне не можно, я Христова невеста».
– А-ах, вон ты про что!.. Я тоже про отшельников этих слышала. Говорят, даже документальный фильм был. Как ты сказал – «Христова невеста?» Надо же!
– «Во всём виновато отшельничество и отсутствие иммунитета», – продекламировал Савва Юрьевич: – Из того самого телефильма. Были у них, кроме Агафьи, ещё два здоровенных парня, которые на охоте гоняли оленя до тех пор, пока тот не падал от изнеможения. Когда же их обнаружили, буквально вскоре оба умерли чуть не от коклюша, а следом за ними и мать. Их там же, в тайге, и похоронили, поставили три креста, при появлении которых в кадре голос диктора звучал таким примерно трагическим образом: «Во всём виновато отшельничество и отсутствие иммунитета. Они ушли от людей, оторвались от общества – и вот к чему это привело».
Ольга, внимательно всё это выслушав, хотела что-то сказать, но в эту минуту опять позвонили в дверь. Катя пошла открывать, и вскоре из прихожей донесся её насмешливый голос:
Когда вышли из подъезда, прежде чем расстаться, на мгновение глянули друг другу в глаза. И так получилось, что именно на Пашеньке задержал Виктор свой любопытный взгляд, что-то как бы для себя отметил, но тут же нахмурился, сказал «до свидания» и, на ходу надевая меховые кожаные перчатки, не оглядываясь, зашагал по переулку направо; остальные повернули налево.
4
Заботливо придерживая Катю под руку, Савва Юрьевич завёл речь о своём недавнем бенефисе, излагая, однако, совсем не так, как было на самом деле, а так, как выгоднее всего было теперь подать – культурно, чинно, умеренно. На самом деле всё было некультурно, бесчинно и неумеренно, ибо «друзья мои, – заявил он на том бенефисе, – я уважаю Пушкина за его беззаветную преданность гарему! Вы не ослышались, друзья мои, гарему! Перечитайте «Бахчисарайский фонтан» – и вы всё поймёте! А «Я вас любил…» – по-вашему, что означает? Не знаете? А я вам скажу. Борьбу головы с сердцем! Но, дороже мои, – продолжал он на том бенефисе, – когда сердце испорчено, голова не имеет права задумываться! Я не против испорченного сердца, но я против задумчивой головы! Вы хотите знать, почему… А я вам отвечу. Потому что не «княжна» владеет соромным мужем, а русалка. Да-да, дорогие мои, русалка! И не простая, не обыкновенная. Ибо есть русалки обыкновенные, а есть русалки необыкновенные. Необыкновенные – это те, которые утопились в монастырском пруду. Я кто, в таком случае? Нет, не монастырского пруда лешак, потому что ещё не утопился, и, видимо, не утоплюсь никогда…»
Из нынешнего же изложения выходило, что скромно выпили по чашечке кофе и около часа читали замечательные стихи, пели старинные романсы и говорили друг другу одни любезности.
Катя, не обращая внимания на его болтовню, всю дорогу сначала прислушивалась к новой жизни в себе, к которой прислушивалась постоянно, потом думала о сестре. Разумеется, она заметила впечатление, которое произвела Пашенька на Виктора, и почти не сомневалась в успехе, правда, прибавляя по-прежнему, если только «звезда эта не помешает». Павла она в расчёт не брала.
Но именно о нём всю дорогу думала Пашенька. И не только, но и невыносимо страдала от того, что так прозаично, в одночасье рухнула её заветная мечта. Боже, чего только она себе, глупая, не воображала – и вот… Но главное письма – кому они теперь нужны? И всё же где-то в глубине души ещё теплилась слабенькая надежда, поддерживаемая как бы вскользь обронёнными на что-то неустроенное в его теперешней жизни намекающими «вроде как».
И так добрались до дома.
– Что вы остановились, Савва Юрьевич? Ещё не поздно, заходите, чаем напоим, – предложила Катя.
Но Савва Юрьевич и не думал уходить и только для приличия сделал вид, что колеблется.
– А котлетку дадите? Катя посмотрела на Пашеньку.
– Остались у нас котлеты?
– Фарш. Да я мигом нажарю. И холодец, должно быть, застыл!
У Саввы Юрьевича даже невольно вырвалось:
– Как – холодец? Настоящий холодец?
– Из свиных ножек, – подтвердила Катя.
– Не может быть!
– Может, Савва Юрьевич, может.
– И кто постарался?
– У нас теперь одна стряпуха, – вздохнула Катя. – Нет, конечно, и я помогала, – добавила она, заметив недовольное движение сестры, – но больше советами.
Когда вошли в квартиру и разделись, Катя предложила Савве Юрьевичу пройти в зал, а сама следом за сестрой ушла на кухню.
Вскоре в воздухе послышались шум и запах жареных котлет, в зале на столе появились холодец, ржаной хлеб, горчица. Не хватало только водки, но Савва Юрьевич на этот раз, так сказать в ответственный момент, не решился попросить, и это на него было не похоже.
Они только поужинали, попили чаю и прибрали со стола, как раздался звонок.
Катя пошла открыть. Так как дверь из зала выходила в прихожую, и Пашенька, и Савва Юрьевич сразу увидели ту самую «звезду», которую меньше всего хотела видеть у себя Катя, следом за ней втиснулся ещё кто-то.
«Звезда», то бишь Ольга, была в норковом полушубке, в тёмной шерстяной чуть ниже колен юбке, но особенным шиком, конечно, была копна распущенных и раскиданных по плечам курчавых светлых волос.
Расстегнув пуговицы полушубка, Ольга позволила невидимым рукам его принять и пристроить на вешалку. Глянув на себя в зеркало, висевшее на стене, она что-то промокнула носовым платком под глазами, изящным движением тронула копну волос и ослепительно вошла в зал. В её облике было что-то такое, что поражало с первого взгляда. Позже, при внимательном изучении, можно было найти и недостатки и даже прийти в недоумение, что же, собственно, так поразило, но стоило начать общаться, как все эти недостатки тут же превращались в только ей одной присущие достоинства.
– Представляешь, Кать, только что у вас была, – заговорила она с той непринуждённостью, с которой говорят чаще на сцене, чем в обыденной жизни. – Из театра забежала на минутку к себе и сразу к вам. Звоню – никого. Приезжаю в мастерскую, Илья говорит: «С полчаса как ушли». Зря, стало быть, моталась. Хотя как сказать, – обернулась она на дверь, за которой кто-то, не показываясь на глаза, продолжал копошиться. – Не надо на меня так смотреть! – перехватила она любопытный взгляд Саввы Юрьевича. – Почему вам можно, а мне нет? – небрежно скользнула она по Пашеньке взглядом, очевидно, на что-то только одному Савве Юрьевичу понятное намекая, и крикнула: – Эй, «вагонообожаемый, вагоноуважатый» – ты где? – И когда что-то вроде Вани, зачем-то прежде выключившего в прихожей свет, появилось на пороге, изящно махнула рукой: – Вуаля!
Она присела к столу и с нескрываемым любопытством смерила Пашеньку взглядом.
– Здравствуйте, – смущённо кивнула в ответ на её любопытный взгляд та. – Хотите чаю?
– И когда Ольга, обезоруженная таким обращением, с усилием над собой кивнула, обронила: – Сейчас принесу, – и вышла на кухню.
Ольга перевела взгляд на Катю.
– Кто это? Катя сказала.
– Ах, во-он оно что! А я подумала… – покосилась она опять на Савву Юрьевича.
Но тот, как сама невинность, потупил очи. Ваня, пройдя боком в зал, присел подальше от стола на край тахты. Катя стояла, держась за спинку стула.
Когда вернулась с чайниками в руках Пашенька, Ольга в знак извинения, на театральный манер опять-таки, приветливо ей улыбнулась.
Попытался втиснуться в происходящее со своей осторожной улыбкой Савва Юрьевич.
– Не сметь! – тут же сурово осадила его Ольга.
– Но… я так давно тебя не видел… – пробормотал тот, будто в чём и впрямь извиняясь. – И потом… обрати внимание, как этот молодой человек на тебя смотрит. А вот я так, – и, с видимостью горечи, заключил: – уже не умею.
– Ошибаетесь, Савва Юрьевич: ему не можно, – не без ехидства заметила Катя.
Савва Юрьевич приподнял брови.
– Не можно? Почему?
– Сам говорил.
Ольга в удивлении на Ваню глянула:
– Правда?
– Говорил! – возмущённый до глубины души такою наглостью, ответил Ваня. – Да только не о себе, а об Агафье!
– О ком?
– Агафье. Лыковой. Когда ей намекнули на замужество, она ответила: «Мне не можно, я Христова невеста».
– А-ах, вон ты про что!.. Я тоже про отшельников этих слышала. Говорят, даже документальный фильм был. Как ты сказал – «Христова невеста?» Надо же!
– «Во всём виновато отшельничество и отсутствие иммунитета», – продекламировал Савва Юрьевич: – Из того самого телефильма. Были у них, кроме Агафьи, ещё два здоровенных парня, которые на охоте гоняли оленя до тех пор, пока тот не падал от изнеможения. Когда же их обнаружили, буквально вскоре оба умерли чуть не от коклюша, а следом за ними и мать. Их там же, в тайге, и похоронили, поставили три креста, при появлении которых в кадре голос диктора звучал таким примерно трагическим образом: «Во всём виновато отшельничество и отсутствие иммунитета. Они ушли от людей, оторвались от общества – и вот к чему это привело».
Ольга, внимательно всё это выслушав, хотела что-то сказать, но в эту минуту опять позвонили в дверь. Катя пошла открывать, и вскоре из прихожей донесся её насмешливый голос: