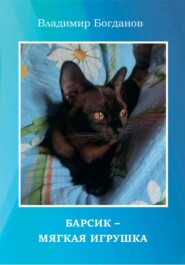По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сказания о Руси изначальной
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вы живы или уже усохли? – подъехал к ним детина с рыжей бородой, – тыкая в грудь каждого рогатиной.
– Ладно, не балуй, а то слетишь с лошади! – огрызнулся пономарь.
– Гляди-ка, Гордей! Зубы кажет, видно, не покойник.
– Тащи их, Кремень, к атаману.
Сопровождая сани, “ушкуйники” – отчаянные молодцы ехали рядом, пели песню:
Под славным великим Новым-городом,
По славному озеру по Ильменю
Плавает – поплавает сер селезень,
Как бы ярой гоголь поныривает,—
А плавает – поплавает червлен корабль
Как бы молода Василья Буславьевича,
А и молода Василья со его дружиною хороброю,
Тридцать удалых молодцов:
Костя Никитин корму держит,
Маленький Потаня на носу стоит,
А Василий-ет по кораблю похаживает,
Таковы слова поговаривает:
«Свет моя дружина хоробрая,
Тридцать удалых добрых молодцов!
Ставьте корабль поперек Ильменя,
Приставайте, молодцы, ко Новугороду».
Высокие сосны теснились к скалам. На горной речке среди порогов застыл водопад. Сверкал лёд самоцветами от солнца. Казалось, дивный хрустальный дворец возник перед пропастью.
Дорога повернула вдоль берега реки и упёрлась в стену из заострённых бревен, врытых в землю.
Проехали через ворота во двор крепости. С трёх сторон возвышались неприступные скалы. Над вершинами кружились орлы.
Несколько изб и сторожевая башня примкнули друг к другу. Лишь часовня одиноко стояла от построек.
Из избы с резными деревянными решетками на окнах вышел Никита Салков. На плечи накинута кунья шуба. Красная рубаха надета навыпуск, на груди вышитая золотом и шелками. На ногах порты из сукна, сапоги из зелёного сафьяна. На голове горлатная шапка. Ни разбойник, а знатный боярин.
– Важных птиц доставили! – со смехом поприветствовал Никита товарищей.
Спустился с крыльца, подошёл, расправляя намасленные усы словно кот
– Ну, как, Велига! Я тебя предварял, что без поручных записей, коли попадёшься поперек либо вдоль – выпарю! Сам скинешь портки либо подоспеть на выручку?
– Ты, видимо, окаянный бес, раз обличье меняешь. Не пойму я, кто ты стрелец или разбойник? Если стрелец, к чему эта карусель с одеждой, коли буян, зачем тебе как волку редька поручные записи?
– Праведен твой гнев, мне записи не к чему. А вот тебе понадобятся. До монастыря, ей-ей, далёко ехать. Стоит ли? Не ровен час, на настоящих стрельцов нарвётесь либо на волков. Аще волкам ваши записи ни к чему. Съедят и так с потрохами, имя не спросят. Зачем же рисковать?
– У нас вестимое деяние для братии.
– Какой разговор! Дело не сокол, не улетит!
– Так ты атаман?
– Нет, я не атаман. Покличь, Кремень, атамана, – обратился Салков к рыжебородому верзиле, стоящему сзади.
Кремень вынул рожок из-за пазухи, призывно протрубил.
Два молодца встали на крыльце возле двери. Мушкеты направили на Велигу и Есеню.
Вышла на зов разбойников женщина в чёрном одеянии. На голове высокая соболья шапка, покрытая убрусом.
Глянул на неё Велига и обмёр. Глаза женщины были не живыми, блеклыми. От этого её лицо казалось надменным.
– Ради чего потревожили мой покой? – обратилась атаманка.
– Смилуйся, госпожа Анисия, – поклонился Салков, – задержали двоих на дороге. Что прикажешь с ними делать?
– Кто такие? Зачем привели сюда?
– Мы от волков спасли крестьян. Ехали, говорят, в монастырь.
– Накормите. И освободите их. – Голос коноводки смягчился.
Что-то знакомое почудилось Велиге в облике женщины. Как молнией пробило его рассудок.
“Это же его невеста!”
– Голуба! – крикнул пономарь, – это я Велига!
Ни одна жилка не дрогнула на лице наставницы.
Пономарь рванулся к крыльцу, но его схватили сзади, не давая приблизиться.
– Голуба! Почему ты меня не узнаёшь? Что с тобой сделали? – пытаясь вырваться, пономарь рассвирепел. Отшвыривал от себя наседавших.