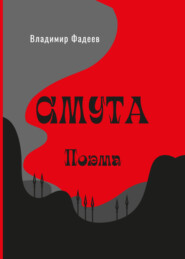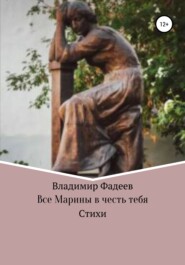По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Возвращение Орла. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Согреться не удавалось: ветер на юру срывал с мокрых тел последнее тепло.
«И чего мы сюда попёрлись?» – спрашивали взглядами друг у друга и пожимали в ответ усыпанными мурашками плечами.
– Рай… – разочарованно выдохнул Африка, – даже дров нету!
– Так он не здесь, рай, – ёжась и постукивая зубами, проговорил Аркадий.
– Как не здесь? – возмутился Семён, – А Ахерон? А Зарайск? Ты же взбаламутил – райдуга, на другом берегу и клюёт лучше!.. Врал опять…
– Ничего не врал, – спокойно отвечал Аркадий, зябко потирая предплечья. – На другом берегу, – кивнул в сторону оставленной ими косы, отделённой теперь полукилометром свинцовых барашков, – лучше… и клюёт, и вообще. Там и рай.
Вот так… Другой – он всегда другой, это тот, на котором нас нет сейчас.
В философическом молчании по очереди выпивали из стеклянных стаканчиков, закусывая венгерским деликатесом.
– Кто ты, мой невидимый друг? – выскребая из банки остатки, процитировал Семён. В благодарность за столь странное гостеприимство до краёв наполнили обе стопочки самогоном и, поставив их рядышком, пустой банкой накрыли – мало ли, пыль, мухи…
Откуда ни возьмись появился Лёха, наверх не поднимался, без слов допил из узкого нержавеющего горлышка остатки и забрал в чёлн старого, малого и умного – Виночерпия, Аркадия и Николаича:
– Отвезу, вернусь.
– Плыви, плыви, мы сами.
Назад четверым было плыть легче: волна – по Лёхиному веленью? – стихла, а может, и не стихла, просто не била теперь со всего размаху в рожу, а подгоняла, ласково, как банщик в парную, подталкивала в спину.
Сон Семёна
И в снах я смотрел сны,
В которых смотрел сны,
О том, как смотрел сны —
Забавно со стороны…
Из стихотворения Семёна
Приплыли, согрелись и – уснули.
В этот раз Семён проснулся позже всех – потому ли, что догонял команду по количеству сновидческих блужданий, или в этот раз за сновидческое дело взялся не Морфей, а его умудрённый батюшка Гипнос, а возможно, и вообще обошлось без греков, а окружили заботой свои, славянские баюкальщики – сони, дрёмы, угомоны да баи. Родные боги не стали нарушать традиции и, хоть без морфеевской прыти, потащили Семёнову душу по событиям этого, 16 мая, дня в разные прошлые годы. Сначала пронеслись над домом Кацака в Кишинёве, где в те минуты принимали в масонскую ложу «Овидий» Александра Сергеевича (без участия процедуре, было всё-таки в ней что-то фальшивое); потом покружили над садом «Аквариум» в Петербурге, где крутили первое в России кино, дивясь публике, шарахнувшейся от прибывающего поезда, в секунду махнули в другой век и на другой край земли на первый «Оскар» – веселее, но тоже не зацепило, грустно порадовались вместе с раскольниками по поводу царского рескрипта о предоставлении им гражданских прав… после чего неожиданно сквозь сон услышали голос, как будто Сергея Ивановича: «Божий человек всегда найдёт на чём плыть, не будет кожаной лодки, сгодится один только остов её, не будет остова, поплывём на расстеленном по водной глади плаще… один святой плыл быстрее корабля, от которого он отстал, на сломанной веточке…»
«Ба, да это ж святой Брендан, ему сегодня память! – узнал Семён. – Ирландский мореплаватель. Старовер, наверное, вот и объявился».
Брендан, в старых лаптях и в русских портах смазывал каким-то вонючим салом швы кожаных лоскутов, которыми было обтянуто его корыто.
– Как же ты на этом поплывёшь?
– С божьей помощью. И не один я, нас вон семеро и вина бочка.
«Нет, не старовер…»
– Тогда конечно. Всемером, да с божьей помощью, да с бочкой вина…
– Вы разве не так собрались?
– Мы на корабле, двухпалубном, трёхмачтовом, да ещё 22 шестифунтовые пушки.
– Пушки вам на кой? С пушками бог вас не пустит.
– Куда не пустит?
Брендан бросил на Семёна изумлённый взор.
– Как куда? На блаженные острова. Вы разве не к ним? Тогда и затевать незачем, сидите на берегу, утонете иначе.
– Сам-то не утонешь?
– Я – Мореплаватель. Меня фоморы плавать учили.
– Поморы?
– Фоморы, великаны-боги, они всем морякам моряки.
– Так это ж наши… земляки, поморы!
Брендан прекратил мазать.
– То-то и смотрю – похож, белобрыс и глуп.
– Как же у тебя поморы, боги – глупые?
– Глупые… такую землю оставили… удержи теперь без них.
– Далеко ли… острова блаженные? Плыть до них сколько?
– Жизнь…
– Не заблудитесь в пространствах?
– Мы не плаваем в пространствах, мы пространствами гребём.
– Да ты поэт!
– А ты разве не поэт?
– Поэт… как ты узнал? Я и не печатался нигде…
– И хорошо, что не печатался. Молодых литераторов печатать нельзя. Только портить.
«Э! Да это не Брендан, это ж Андрей Васильевич Скалон! – он ещё раз всмотрелся в лицо мореплавателя, – конечно, Скалон». Его литературный учитель, охотовед, природолюб, только он мог так сказать о молодых литераторах, а уж тем более о поэтах, которых он не любил – не потому что сам был прозаиком, а потому что был фундаментальным человеком и лёгких стихоплётов, пропеллером гоняющих по бумаге драгоценные слова, ставил куда ниже «настоящих писателей», которые, говорил, не боясь двусмысленности, пишут не пропеллером, а задницей, жопой: садятся и пишут.
– Сами они этого не понимают, закон, как там у вас… да – Гёделя, – «а может не Скалон, откуда бы охотоведу знать про Гёделя?» – но печатать молодых – это даже не бражку пить, а дрожжи жевать, и противно, и живот пучит, – «Скалон, Скалон!» – ведь тем, что ты пишешь, ты создаёшь мир, не в переносном смысле, «мир художника такого-то», а настоящий, вот этот самый.
«И чего мы сюда попёрлись?» – спрашивали взглядами друг у друга и пожимали в ответ усыпанными мурашками плечами.
– Рай… – разочарованно выдохнул Африка, – даже дров нету!
– Так он не здесь, рай, – ёжась и постукивая зубами, проговорил Аркадий.
– Как не здесь? – возмутился Семён, – А Ахерон? А Зарайск? Ты же взбаламутил – райдуга, на другом берегу и клюёт лучше!.. Врал опять…
– Ничего не врал, – спокойно отвечал Аркадий, зябко потирая предплечья. – На другом берегу, – кивнул в сторону оставленной ими косы, отделённой теперь полукилометром свинцовых барашков, – лучше… и клюёт, и вообще. Там и рай.
Вот так… Другой – он всегда другой, это тот, на котором нас нет сейчас.
В философическом молчании по очереди выпивали из стеклянных стаканчиков, закусывая венгерским деликатесом.
– Кто ты, мой невидимый друг? – выскребая из банки остатки, процитировал Семён. В благодарность за столь странное гостеприимство до краёв наполнили обе стопочки самогоном и, поставив их рядышком, пустой банкой накрыли – мало ли, пыль, мухи…
Откуда ни возьмись появился Лёха, наверх не поднимался, без слов допил из узкого нержавеющего горлышка остатки и забрал в чёлн старого, малого и умного – Виночерпия, Аркадия и Николаича:
– Отвезу, вернусь.
– Плыви, плыви, мы сами.
Назад четверым было плыть легче: волна – по Лёхиному веленью? – стихла, а может, и не стихла, просто не била теперь со всего размаху в рожу, а подгоняла, ласково, как банщик в парную, подталкивала в спину.
Сон Семёна
И в снах я смотрел сны,
В которых смотрел сны,
О том, как смотрел сны —
Забавно со стороны…
Из стихотворения Семёна
Приплыли, согрелись и – уснули.
В этот раз Семён проснулся позже всех – потому ли, что догонял команду по количеству сновидческих блужданий, или в этот раз за сновидческое дело взялся не Морфей, а его умудрённый батюшка Гипнос, а возможно, и вообще обошлось без греков, а окружили заботой свои, славянские баюкальщики – сони, дрёмы, угомоны да баи. Родные боги не стали нарушать традиции и, хоть без морфеевской прыти, потащили Семёнову душу по событиям этого, 16 мая, дня в разные прошлые годы. Сначала пронеслись над домом Кацака в Кишинёве, где в те минуты принимали в масонскую ложу «Овидий» Александра Сергеевича (без участия процедуре, было всё-таки в ней что-то фальшивое); потом покружили над садом «Аквариум» в Петербурге, где крутили первое в России кино, дивясь публике, шарахнувшейся от прибывающего поезда, в секунду махнули в другой век и на другой край земли на первый «Оскар» – веселее, но тоже не зацепило, грустно порадовались вместе с раскольниками по поводу царского рескрипта о предоставлении им гражданских прав… после чего неожиданно сквозь сон услышали голос, как будто Сергея Ивановича: «Божий человек всегда найдёт на чём плыть, не будет кожаной лодки, сгодится один только остов её, не будет остова, поплывём на расстеленном по водной глади плаще… один святой плыл быстрее корабля, от которого он отстал, на сломанной веточке…»
«Ба, да это ж святой Брендан, ему сегодня память! – узнал Семён. – Ирландский мореплаватель. Старовер, наверное, вот и объявился».
Брендан, в старых лаптях и в русских портах смазывал каким-то вонючим салом швы кожаных лоскутов, которыми было обтянуто его корыто.
– Как же ты на этом поплывёшь?
– С божьей помощью. И не один я, нас вон семеро и вина бочка.
«Нет, не старовер…»
– Тогда конечно. Всемером, да с божьей помощью, да с бочкой вина…
– Вы разве не так собрались?
– Мы на корабле, двухпалубном, трёхмачтовом, да ещё 22 шестифунтовые пушки.
– Пушки вам на кой? С пушками бог вас не пустит.
– Куда не пустит?
Брендан бросил на Семёна изумлённый взор.
– Как куда? На блаженные острова. Вы разве не к ним? Тогда и затевать незачем, сидите на берегу, утонете иначе.
– Сам-то не утонешь?
– Я – Мореплаватель. Меня фоморы плавать учили.
– Поморы?
– Фоморы, великаны-боги, они всем морякам моряки.
– Так это ж наши… земляки, поморы!
Брендан прекратил мазать.
– То-то и смотрю – похож, белобрыс и глуп.
– Как же у тебя поморы, боги – глупые?
– Глупые… такую землю оставили… удержи теперь без них.
– Далеко ли… острова блаженные? Плыть до них сколько?
– Жизнь…
– Не заблудитесь в пространствах?
– Мы не плаваем в пространствах, мы пространствами гребём.
– Да ты поэт!
– А ты разве не поэт?
– Поэт… как ты узнал? Я и не печатался нигде…
– И хорошо, что не печатался. Молодых литераторов печатать нельзя. Только портить.
«Э! Да это не Брендан, это ж Андрей Васильевич Скалон! – он ещё раз всмотрелся в лицо мореплавателя, – конечно, Скалон». Его литературный учитель, охотовед, природолюб, только он мог так сказать о молодых литераторах, а уж тем более о поэтах, которых он не любил – не потому что сам был прозаиком, а потому что был фундаментальным человеком и лёгких стихоплётов, пропеллером гоняющих по бумаге драгоценные слова, ставил куда ниже «настоящих писателей», которые, говорил, не боясь двусмысленности, пишут не пропеллером, а задницей, жопой: садятся и пишут.
– Сами они этого не понимают, закон, как там у вас… да – Гёделя, – «а может не Скалон, откуда бы охотоведу знать про Гёделя?» – но печатать молодых – это даже не бражку пить, а дрожжи жевать, и противно, и живот пучит, – «Скалон, Скалон!» – ведь тем, что ты пишешь, ты создаёшь мир, не в переносном смысле, «мир художника такого-то», а настоящий, вот этот самый.