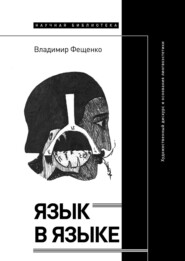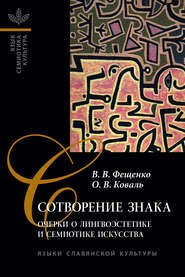По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В этом месте рассуждений Г. Шпета возникает новый важный термин – «автор». «Персона автора слова», утверждает он, имеет для художественной коммуникации («экспрессивности» в терминологии Шпета) первостепенное значение. Отношение автора к слову, к знаку, творимому им (т. е. то, что в современной теории языка именуется «дейксисом»[11 - С той лишь разницей, что дектика, в трактовке Ю. С. Степанова, отражает «отношение языка к говорящему, знаков к человеку, пользующемуся языком», а «личное действие», в понимании Г. Г. Шпета, имеет в виду отношение говорящего к языку, человека к знакам. Отсюда и постулируемая Шпетом направленность герменевтического исследования: «От внешней экспрессии требуется переход в глубь, в постоянный ее источник, к руководящему его началу <…> к систематическому ознакомлению с автором и его личностью» [Шпет 1926: 469]. О связи такого подхода со спецификой авангардного автора см. ниже.] [Степанов 1998: 373–380]) становится определяющим для лингвиста и семиолога. В связи с этим категория «повода», «поведения автора», «отношения к сообщаемому» (на языке современной лингвистической прагматики – «речевой акт») становится самостоятельным предметом рассмотрения: «Интерпретация слова с этой точки зрения есть истолкование поведения автора в смысле его правдивости или лживости, его доброжелательного отношения к сообщаемому, его веры в него или сомнения в нем, его благоговейного или цинического к нему отношения, его убежденности в нем, его страха перед ним, его восторга и проч., и проч.» [Шпет 1926, 469].
Что же выступает в конкретном художественном акте, в конкретном произведении словесного творчества в роли знака-проводника, посредующей субстанции между миром произведения и объемлющим само произведение миром автора? Согласно Шпету, таким знаком, выражающим отношение между творением и творцом, является внутренняя форма.
Еще В. фон Гумбольдт инициировал внедрение понятия «внутренняя форма» в лингвистические исследования. Им был поставлен вопрос о «внутренней форме языка»; причем важно подчеркнуть, что эта идея изначально включала в себя креативно-динамическую составляющую. А. Потебня предложил вместо внутренней формы языка изучать более «осязаемую» в научном плане внутреннюю форму слова. Под последней русский филолог подразумевал «ближайшее этимологическое значение слова», или «тот способ, каким выражается содержание» [Потебня 1976: 175]. У В. фон Гумбольдта и А. Потебни внутренняя форма еще не мыслилась как порожденная индивидуальным актом творчества. Такое понимание впервые предпринял в контексте художественной семиотики уже в XX в. Г. Г. Шпет. «Поэтика, – утверждает Шпет, – должна быть учением о чувственных и внутренних формах (поэтического) слова (языка) <…>» [Шпет 1922: 410]. Разработке этого учения он посвящает отдельное исследование «Внутренняя форма слова» (1927). В нем он следует концепции Гумбольдта, применяя ее к сфере уже индивидуально-языкового творчества[12 - См., с одной стороны, обобщающий, а с другой – развивающе-порождающий философский труд В. В. Бибихина, представляющий конспекты его лекций: [Бибихин 2008]. О возможностях соотнесения внутренней формы в поэтике, с одной стороны, и в поэзии, с другой, см. [Аристов 2004].].
Как указывает Г. Шпет, термин «внутренняя форма» первоначально возник у Гумбольдта в контексте эстетическом. Сопоставляя язык с искусством и определяя поэзию как «искусство языка», немецкий филолог отмечает, что она создается «для внешних и внутренних форм, для мира и человека». Однако точное определение «внутренней форме» Гумбольдт не дает, что, в свою очередь, вдохновляет Шпета более предметно описать значение внутренней формы применительно к семиотической проблематике.
Во всяком словесном творчестве – научно-понятийном или художественно-образном, пишет Г. Шпет, имеет место планомерное выполнение некоторого замысла. Здесь значимой оказывается именно внутренняя форма – как правило образования понятия (в науке) или образа (в искусстве). «Это правило есть ничто иное, как прием, метод и принцип отбора, – закон и основа словесно-логического творчества в целях выражения, сообщения, передачи смысла» [Шпет 1927: 98]. Можно говорить о внутренней форме понятия, или «внутренней логической форме», и о внутренней форме образа, или «внутренней поэтической форме». Совокупность таких «правил», законов комбинирования словесно-логических единиц (понятий, образов) Шпет называет «словесно-логическими алгоритмами». «Такого рода алгоритмы суть также формы образования понятий, и, следовательно, диалектики самого смысла, динамические законы его развития, творческие внутренние формы, руководящие понимающим усмотрением смысла в планомерном отборе элементов, но допускающие свободу в установлении той или иной планомерности <…>» [Там же: 119]. Внутренние формы как алгоритмы, т. е. «формы методологического осуществления, способны раскрыть соответствующую организацию „смысла“ в его конкретном диалектическом процессе» [Там же: 141].
Как же функционируют внутренние формы в художественном процессе? Во-первых, утверждает Шпет, поэтический (художественный) язык, в отличие от языка прагматического (научного или обыденного), на первый план выдвигает не прагматические цели, а «свои собственные внутренние цели саморазвития» [Там же: 143]. Во-вторых, – и это вытекает из первого тезиса – искусство не покрывается одними «логическими внутренними формами», свойственными опять же языку обыденному, а имеет свои особые – художественные или поэтические – внутренние формы. Художественный язык – это всегда «планомерно конструируемый организм», отличающийся единством и цельностью. Законы такой органичности суть «правила, лежащие в самом организуемом матерьяле, его собственные формы, сочетаемые и упорядочиваемые соответственно руководящей идее творчества». Идея эта «лежит не вне данного матерьяла и его форм, а в них самих, и потому автономно осуществляется в их единстве, как в художественной форме форм» [Там же: 147]. Последняя создает уже конкретные приемы и пути образования художественных образов и смыслов. Таким образом, внутренние формы играют роль законов образования художественной речи, ее правил-алгоритмов. Внутренние формы, далее, имеют прямое отношение к субъекту творчества. Творческий субъект осуществляет в своей языковой деятельности оригинальную идею художественности. Внутренняя форма отождествляется Шпетом с «внутренней идеей» творчества: «Произведение есть продукт некоторого целемерного созидания, т. е. словесного творчества, руководимого не прагматическою задачею, а внутренней идеей самого творчества <…>» [Тамже: 142].
Каковы же способы вскрытия этой творческой субъективности? Как связан внутренний человек-художник (persona creans, как называет его Г. Шпет) и внутренние формы его творчества?
В художественном творчестве, по Г. Шпету, языковое выражение есть прежде всего субъективное выражение. В языке искусства «перед нами – не автоматические „реакции“, „импульсы“, „рефлексы“ и пр., а полные значения и жизни „жесты“, „мимика“, „интонация“ и пр. – то, что объемлется термином „экспрессия“. Именно здесь-то и сосредотачивается искомое нами субъективное, здесь – подлинная сфера субъективности <…> Субъективность в слове, начиная с интонации данной фразы, через общую манеру излагать свои „сообщения“, вплоть до самых устойчивых форм словесного приема, школы, стиля, всегда запечатлевается в виде экспрессивности самого же слова». Тем самым Г. Шпет предвосхитил разработку проблемы субъективности в языке в трудах Э. Сепира, Э. Бенвениста, Ю.С. Степанова, Н.Д. Арутюновой.
По заключению С. Зенкина, «переосмысление идеи внутренней формы слова / языка в русской теории первой трети XX в. было связано с поисками аналитических инструментов для анализа форм творческого присутствия человека в языке. <…> Когда в 1910—1920-е гг. встала задача конкретно объяснить индивидуальный, не детерминированный предшествующими законами языка творческий акт, то выражением этого конкретно-творческого начала в языке стала служить субъективно переосмысленная категория внутренней формы (формы скорее слова, высказывания, текста, чем языка в целом)» [Зенкин 2004: 161–162; см. так же Аристов 2004]. Именно понятие внутренней формы в изложении Шпета дает возможность анализировать глубинное измерение знака. Не случайно концепция внутренней формы выводится Шпетом на материале анализа эстетических форм, ведь поэтический язык, в отличие от языка прагматического (научного или обыденного), на первый план выдвигает не прагматические цели, а «свои собственные внутренние цели саморазвития». Глубинно-семиотический подход, основателем которого выступает Шпет, ставит во главу семиотического процесса самого человека. В соссюрианской и пирсианской семиотике мир знаков априори признается внешним по отношению к личности. Шпетовская семиотика человекомерна, или «целемерна», в его собственных терминах, объектом ее изучения является совокупность внутренне обусловленных знаков, которые производит и воспринимает человек в коммуникативном и творческом процессе.
* * *
В русле идей Г. Шпета работали такие выдающиеся филологи-языковеды, как В. В. Виноградов, В. Н. Волошинов и Н. И. Жинкин.
Ранние работы В. В. Виноградова о языке Ахматовой, Зощенко, Аввакума являют собой пример целостного анализа языкового мира художника [Чудаков 2003]. Исследуя языковые способы «художественного мирооформления», ученый следует шпетовскому принципу преимущественной субъектности художественного высказывания. Показательно, что для иллюстрации этой особенности – «самодеятельности субъекта литературы, который находится в меняющихся структурных связях с субъектом бытовой речи» – Виноградов обращается к авангардному опыту в современной ему литературе. Так, в «словесно-художественной системе» символизма, заключает он, «ясно выступают принципы своеобразной условно-литературной деформации общего социально-бытового контекста речи» [Виноградов 1980: 200]. Совсем иной тип отношений к прагматическому языку письменности и быта воплощен, по его мнению, в словесной структуре футуризма: «В основу построения литературного образа субъекта полагается иллюзия освобожденности от предметно-смысловых форм общего языка, иллюзия непосредственно-творческого выражения индивидуальности, разорвавшей оковы культурных традиций». Пусть в этих формулировках слышны оценочно-отрицательные обертона, вызванные, по-видимому, недостаточно адекватной к тому моменту оценкой авангардного творчества. Важно здесь то, что на примере новой, «живой» литературы отрабатываются новые научные подходы к поэтике языкового творчества. Показывается, с одной стороны, различие форм и функций, определяющих разные литературные системы. С другой стороны, постулируется их отличие от «форм социально-языковой системы», т. е. форм непоэтического языка («ведь литературные произведения – принципиально новые языковые единства, не предусмотренные методологией социальной лингвистики»). Язык литературы и, следовательно, литературных произведений, «пребывая в одной плоскости с социально-языковыми системами и определяясь формами соотношений с ними, как особая система должен в то же время внутри себя обладать собственными „дифференциальными“ формами, которые могут по своему строению и по своему отношению к системе литературы не иметь никаких семантических соответствий с формами общего языка».
Неразработанность инструментария нарождающейся лингвистической поэтики заставляет В. Виноградова оговариваться: «В сущности, приходится признаться, что характер этих „литературно-языковых“ форм пока не достаточно ясен». Допускается, что предметами рассмотрения здесь могут быть и «общие композиционные категории», и «образы субъектов» и определенные «лексические приметы». Все эти характеристики, полагает Виноградов, могут лечь в основу изучения «языка художественной литературы» (как считает Виноградов, именно он должен стать главным объектом лингвопоэтических исследований). При этом, добавляет он, многие отдельные и своеобразные «языки художественной литературы», такие как «язык символизма», «язык футуризма», «язык конкретного автора» ит. д., должны определяться «только негативными признаками, нулевыми формами, формами соотношений, своим, так сказать, местом в общей системе». Определением лингвистических маркеров «своего» места в «общей» системе призван заниматься, согласно Виноградову, «имманентный анализ» языка художественных произведений.
Лингвистическая поэтика мыслится Виноградовым как семиотическая дисциплина. Не случайно поэтому при обсуждении вопросов словесного творчества он обращается к методологии Ф. де Соссюра, а именно к дихотомии langue / parole. Отмечая, что для langue в соссюровской трактовке существенны «общие категории соотношения», тогда как для parole – «индивидуальные отличия объектов», он делает значимое для нашей темы допущение: «<…> быть может, допустимо по аналогии применить к изучению литературы „эквивалентные“ langue и parole понятия – понятия системы как некоей общей для известного литературного круга нормы форм, и индивидуального творчества как ее „нарушения“, „преобразования“?»
В порядке небольшого, но необходимого для нашей темы отступления, прокомментируем приведенное высказывание В. Виноградова. Представление о «нарушении нормы» в языке художественной литературы является существенным прогрессом в лингвистической поэтике по сравнению с концепцией «остранения приема» В. Шкловского. Стоит заметить, правда, что еще в 1920-х гг. ленинградский лингвист Б. А. Ларин ввел понятие «собственной нормы произведения». Будучи образованной контекстами употребления – общелитературного, жизненного, текстового – норма сообщения в художественной речи, согласно Ларину, подвижна. Так, уже первые «такты» стихотворения – его ритм, размер, мелодика, первые словесные образы – задают «норму» [Ларин 1974] (см. об этом: [Степанов 2002: 287–289]). Ясно, что здесь норма трактуется еще вне отнесения к ее нарушению, а лишь в пределах внутреннего пространства произведения. В более общем виде уровень нормы применительно к языковому материалу формулируется Э. Косериу – как «совокупность общепринятых, традиционных реализаций структуры» – [Там же: 10]. Однако здесь речь еще идет об оппозиции норма – отступление от нормы в контексте литературного языка и служит социально-исторической категорией художественных языков. Между тем В. Виноградов говорит о норме уже в области художественно – индивидуального языка. Это совсем новый вопрос, выдвинутый в круг научных проблем в первые десятилетия прошлого века.
Необходимо отметить, что к подобному вопросу в чем-то сходными, а чем-то различными путями подошел современный В. Виноградову пражский структурализм и последующий структурализм французский. В основе поэтического языка, с точки зрения этой научной школы, лежит так называемый еcart stylistique, стилистическое отклонение, сложным образом реализующееся в индивидуально-поэтической системе автора.
Согласно концепции Р. Барта, развившего теорию «письма», («еcriture») автор художественного произведения реализует себя в поэтической речи посредством трех инстанций – языка, стиля и письма. Если язык представляет собой совокупность предписаний и навыков, общих для всех авторов данной эпохи, являясь одновременно ограничением и открытием диапазона возможностей, то стиль – это специфическая манера данного автора, его личная мифология: «Горизонт языка и вертикальное измерение стиля очерчивают для писателя границы природной сферы, ибо он не выбирает ни свой язык, ни свой стиль. Язык действует как некое отрицательное определение, он представляет собой исходный рубеж возможного, стиль же воплощает Необходимость, которая связывает натуру писателя с его словом» [Барт 1953: 332]. Однако решающую роль в художественном процессе играет так называемое письмо (еcriture). Это «формальное образование», находящееся между языком и стилем, представляет собой, по Барту, «этос», или «мораль формы». Именно посредством «письма» автор обретает отчетливую индивидуальность, «возможность избирать известный тон». И именно в этом измерении возникает проблема нормы и ее преодоления: «В области же формы писатель может действительно стать самим собой лишь за пределами установлений, диктующих ему грамматические нормы и константы его стиля, – там, где писанное слово автора, поначалу укорененное и замкнутое в пределах абсолютно нейтральной языковой природы, превращается наконец во всеобъемлющий знак, в способ выбора определенного типа человеческого поведения <…>»[13 - Нельзя не заметить перекличку этих соображений Р. Барта с идеей Г. Шпета о «поведении сообщающего» и «отношении сообщающего к сообщаемому», а также с идеей Н. Жинкина об «интонационных формах», выражающих «живое отношение субъекта к вещам, людям, событиям» (см. ниже).][Там же: 333]. Из этого высказывания явствует, что вопрос о норме в поэтическом языке ставится Р. Бартом в дискурсивном ключе, обнаруживая сразу несколько ракурсов обозрения: со стороны нормативной лингвистики, со стороны индивидуальной стилистики и, наконец, со стороны речевых жанров, т. е. прагматики.
Данная идея Р. Барта развивается далее Ж. Женеттом, определяющим поэтический язык по отношению к литературному языку как «отклонение от нормы», а поэтику – как «стилистику жанра, которая изучает и оценивает отклонения от нормы, характерные не для индивида, но для целого языкового жанра, то есть именно то, что Барт предложил назвать письмом» [Женетт 1998: 142]. Тут же онуточняет, что в виду имеется не столько отступление от правила, сколько нарушение его: «<…> поэзия не отступает от прозаического кода как некая вольная вариация тематической константы, она взламывает и попирает этот код, будучи его полной противоположностью <…> В этом смысле поэтическое отклонение <…> – это абсолютное отклонение» [Там же].
Думается, что столь агрессивно-поэтичный лексикон определений как у Барта, так и у Женетта вызван тем, что французская структурная поэтика изначально ориентировалась в своих формулировках на радикальные формы литературы, которые стремились обосновать свой поэтический язык как упраздняющий понятия традиции и нормы, как «нулевую степень письма», по дефиниции того же Р. Барта. Тем не менее, несмотря на данный факт, концепция нормы и ее нарушения в выкладках французских структуралистов содержит зерна истины. В самом деле, если допустить, что творец художественного произведения в большей степени, чем обычный носитель языка, присваивает себе язык в момент речи (ср. с тезисами М. Бахтина: «язык нужен поэзии весь, всесторонне и во всех своих моментах»; «поэзия выжимает все соки из языка, и язык превосходит здесь себя самого»), то следует признать, что художественный язык не исчерпывается характеристикой его как простого «отклонения». По меньшей мере это – «сложное отклонение», а по большому счету – особое языковое образование, соотносящееся с нормой посредством множества признаков.
Рассматривая поэтику (т. е. язык художественных произведений) как знаковую систему, Ю. С. Степанов приходит к выводу: «Словесное художественное произведение может образовывать само по себе индивидуальную знаковую систему. Поэтому проанализировать словесное художественное произведение семиотически (если оно этому поддается) – значит установить повторяющиеся в нем предельные, далее неразложимые без потери смысла словесные образы или фигуры (аналог морфов и изолятов), а затем начинать обобщать их как по линии синтагматики, „в длину“, так и одновременно с этим по линии парадигматики, „в глубину“. Движение по линии синтагматики основано на принципе эквивалентности <…> и заключается в том, чтобы: а) определить отношение произведения к ближайшей к нему литературной среде и к общенациональной норме речи, б)установить его собственную, или внутреннюю, норму, в) установить отклонения в ходе повествования от его собственной, или внутренней, нормы» [Степанов 1998: 72] (разрядка наша. – В. Ф.). Итак, художественное произведение вступает в сложные семиотические отношения с нормами, как внешними, так и внутренними. При этом оно образует индивидуальную знаковую систему, что, в свою очередь, ставит вопрос об индивидуальном языке, или индивидуальной речи.
Вопросом о том, существует ли личный язык («private language»), задавался еще Л. Витгенштейн, сомневаясь, впрочем, в положительном ответе на него. Он писал: «<…> можно также представить людей с монологической речью. Они сопровождали бы свои действия разговорами с самими собой. <…> Но мыслим ли такой язык, на котором человек мог бы для собственного употребления записывать или высказывать свои внутренние переживания – свои чувства, настроения и т. д.? <…> Слова такого языка должны относиться к тому, о чем может знать только говорящий, – к его непосредственным, личным впечатлениям. Так что другой человек не мог бы понять этого языка» [Витгенштейн 1994: 170–171]. Как будто бы солидаризуясь с Витгенштейном, исследователь его творчества В. П. Руднев делает заключение: «Доказательство невозможности индивидуального языка – признак ориентации философии на лингвистику и семиотику» [Руднев 2001: 155]. На первый взгляд, это утверждение неоспоримо (см. выше о «языковом повороте» в науке XX в.). Однако на поверку оно оказывается не столь уж и убедительным. Ведь у Витгенштейна, представителя «философии обыденного языка», речь идет о прагматическом, обыденном употреблении языка. Действительно, в обыденной речи главным критерием понимания служит общность знаний, а критерием коммуникации – ясность мысли. Но другое дело – поэтическая речь и художественная коммуникация. Здесь прагматика не является ведущим измерением семиозиса, а необычность знаний и размытость мыслительного процесса, вместе с его многослойностью, являются конструктивными признаками.
Психологами и психолингвистами отмечается, что одним из этапов в процессе порождения речевого высказывания является так называемая внутренняя речь, причем этот факт постулируется даже в отношении обыденной коммуникации. Такова, например, концепция Л. С. Выготского, трактующего внутреннюю речь как «язык для самого говорящего». Внутренняя речь, согласно этой концепции, является одним из этапов внутреннего кодирования в процессе речемыслительной деятельности. Ее характерные признаки – имплицитность, незаконченность, эмбриональность, идиоматичность. В этом смысле прав В. П. Руднев, отмечающий, что «внутренняя речь введена в научную терминологию по аналогии с литературой XX в., заинтересовавшейся процессом порождения речи и передачей внутренних переживаний человека» [Руднев 2001: 154]. Возможно, впрочем, что причиной обращения как художников, так и ученых к внутренним уровням языка было возникновение некоего общего и для тех и для других проблемного поля, требовавшего новой концептуализации.
В этом же ряду следует рассматривать и соображения В. Н. Волошинова о внутренней речи как знаковом материале психического мира. Согласно данной теории, слово является по преимуществу «внутренним знаком». Прежде чем стать внешним «высказыванием», слово рождается в сознании говорящего, являясь знаковым материалом внутреннего мира. «Слово может служить знаком, так сказать, внутреннего употребления; оно может осуществляться как знак, не будучи до конца выраженным во-вне» [Волошинов 1929: 358] (см. также [Бахтин 1996; Алпатов 2004]). К сожалению, самим В. Н. Волошиновым эта проблематика не была подробно разработана. Думается, однако, что этому помешал определенный социологизм его концеции языка. Будучи примененными к области поэтической лингвистики, данные соображения, как нам кажется, имели бы далеко идущие перспективы.
* * *
Еще одну попытку концептуализации «внутренней семиотики» предпринял ученик Г. Шпета Н. И. Жинкин, выдвинув идею о кодовых переходах во внутренней речи. Н. И. Жинкин предложил гипотезу о «языке внутренней речи». Употребляя парадоксальное, на первый взгляд самопротиворечивое, выражение «язык речи», он поясняет: существует область вербального сознания, где нет различия между языком и речью. Эта область принадлежит ментальному миру. Учитывая это, имеет смысл, утверждает Жинкин, говорить о каком-то данном языке, который является языком только данной речи, приспособленной к данной ситуации. В таком языке отсутствуют материальные признаки слов естественного языка, поэтому он характеризуется «непроизносимым кодом». «Здесь нет последовательности знаков, а есть изображения, которые могут образовывать или цепь, или какую-то группировку» [Жинкин 1998: 158]. Если формы естественного языка определены строгими правилами, то во внутренней речи правило составляется ad hoc, лишь на время, необходимое для мыслительной процедуры (Жинкин ведет речь о процессе мышления).
Собственно, H. Жинкин описывает двунаправленный процесс человеческого мышления. Первый вектор этого процесса направлен от мыслящего субъекта к себе самому (случай автокоммуникации), второй – от мыслящего субъекта вовне, к другому субъекту (коммуникация как таковая). Никакая коммуникация, по Жинкину, не осуществляется без автокоммуникации. Последняя – первична, именно она ведется на «языке внутренней речи», или просто «внутреннем языке».
В качестве особой разновидности «внутреннего языка» Жинкин выделяет язык художественного мышления. Такой язык характерен тем, что обладает в каждом случае индивидуальностью интонации (ритма). Он всегда интонационно, ритмически обработан и имеет свою особую «интонационную форму». Последняя возникает в творческом акте как непроизвольное (ритм всегда непроизволен) выражение внутренних отношений личности: «<…> интонационная форма является формой чувства, если понимать чувство как живое отношение субъекта к вещам, людям, событиям» [Жинкин 1985: 78]. В поэтическом языке выражение, изобразительность, форма как таковая выполняют главенствующую функцию. «Построение выражения с расчетом на форму самого выражения создает „двойную речь“ – это речь в речи <…>». Так, согласно Н. Жинкину, создается образная речь – на пересечении внутренних и внешних факторов.
Аналогичное понимание специфики художественной речи присутствует и у самих поэтов. Так, Поль Валери (между прочим, далеко не чуждый и теоретической мысли) рассматривает творческий процесс как сознательное волевое усилие поэта, который строит «я зык в языке», призванный воссоздать в своей формальной системности целостное переживание мира. «Малларме был прав. <…> Говоря об идеях, Дега подразумевал внутреннюю речь или образы, которые так или иначе могут быть выражены словами. Однако эти слова, эти скрытые фразы, которые он называл своими идеями <…> поэзии не создают. Есть, следовательно, еще нечто – какое-то изменение, какая-то трансформация, быстрая или медленная, стихийная или сознательная, мучительная или легкая, чье назначение – стать опосредствованием между мыслью, которая порождает идеи, между этой подвижностью, множественностью внутренних проблем и решений и, вслед за тем, речью, совершенно отличной от языка обыденного, какою являются стихи, – речью, причудливо организованной, которая не отвечает никакой потребности, кроме той, какую должна возбудить сама, которая говорит лишь о предметах отсутствующих или тайно и глубоко прочувствованных; речью странной, которая, как нам кажется, исходит отнюдь не от того, кто ее формулирует, и адресуется отнюдь не к тому, кто ей внимает. Эта речь, одним словом, есть язык в языке» [Валери 1993: 323].
Индивидуальная речь позже также становится объектом исследования в семиотике и теории коммуникации, где она рассматривается под углом зрения коммуникативного треугольника (сообщение – отправитель – получатель). При этом предполагается, что внутренняя речь являет собой случай автокоммуникации, или внутренней коммуникации (Ю. М. Лотман). Искусство, полагает Ю. М. Лотман, представляя собой «вторичную моделирующую систему», как раз и описывается по модели внутренней коммуникации [Лотман 1970: 667–668].
Необходимо отметить, что ведущей линией в семиотических исследованиях на многие годы стало изучение индивидуальной речи с точки зрения получателя, или интерпретатора (К. Бюлер, Ю. М. Лотман, В. 3. Демьянков и др.). Даже в новейших работах по теории художественного текста (см., например, [Лукин 1999]) этот вектор остается руководящим. Думается, однако, что гораздо большей актуальностью и перспективностью обладает противоположный вектор исследования: от АВТОРА к СООБЩЕНИЮ, от ЧЕЛОВЕКА к ЯЗЫКУ. При таком подходе анализ индивидуальной речи проводится с опорой на то, как языковые процессы синтезируются в сознании говорящего, автора.
Видимо, подобную методику имел в виду Г. О. Винокур, когда говорил об «эстетике языка», которой характеризуется творческий метод автора, выражающий отношение автора к слову [Винокур 1945: 126]. Примерно в это же время такой подход пытался развивать и M. М. Бахтин, полемизируя с формалистическими и нормативистскими теориями художественных стилей. В его неопубликованных на тот момент (1940—50-е гг.) работах возникают такие термины, как «отношение говорящего к языку», «образ языка», «модусы жизни языка», «язык самоосознающийся» и т. п. (см., например, [Бахтин 1924]). Важен в свете нашей темы его тезис о том, что «художественное познание направлено именно на образ говорящего в его индивидуальной конкретности» [Там же: 290]. Правда, вся эта проблематика настойчиво выводилась Бахтиным за пределы лингвистики, в область «металингвистики». Так или иначе для современной теории языка подобные разыскания не потеряли, как нам думается, ни своей концептуальной продуктивности, ни – тем более – своей острой актуальности.
К такому же подходу тяготел, по крайней мере в 1920—40-х гг., и В. В. Виноградов, ставший уже позднее неявным оппонентом M. М. Бахтина. Все творения художественного слова, считал Виноградов, суть проявления одного поэтического сознания – сознания автора-творца. Понятие «языкового сознания», или «поэтического языкового сознания», очень частотно в терминологии Виноградова. Как правило, оно связывается с понятием «индивидуального стиля». Например: «<…> стилистика допускает и иное отношение к индивидуальному стилю, когда он рассматривается как языковой микрокосм, и на основе его изучения намечаются пути для решения некоторых общих лингвистических проблем. В этом плане проникновение в индивидуальное языковое сознание и раскрытие в нем беспрерывности изменений не феноменальных, но субстанциальных, определение путей его развития становится необходимым условием лингвистического анализа» [Виноградов 1922: 347]. В.В. Виноградовым неоднократно подчеркивается действенный индивидуальный момент организации художественного языка по отношению к эстетической цели, устанавливаемой волей творца. Критикуя недостаточность сос-сюрианского семиологического метода, он заявляет: «<…> акт становления литературного произведения не объясним из понятия системы, константных форм языка» [Виноградов 1980: 90]. Вместо константных, установленных форм, которые составляют общеязыковую систему, в художественном процессе мы наблюдаем формы подвижные, становящиеся. О них можно сказать словами Г. Шпета: «Здесь должна быть своя онтология, онтология динамического предмета, где течет не только содержание, но где сами формы живут, меняются, тоскуют и текут. Содержание языкового предмета, – живой смысл, – течет и осуществляется в живых, творимых и осуществляемых формах» (пит. по: [Зинченко 2000: 96]). Мир художественных форм находится, таким образом, в постоянной осцилляции между внутренними и внешними формами.
Не применяя выражения «внутренний язык», В. Виноградов склонен поместить художественный язык, индивидуально-языковое творчество скорее в сферу parole, нежели в langue. Но понятие parole Соссюром не было раскрыто. Он только сделал язык социального общения и говорение личности темами двух разных, резко разграниченных дисциплин. Языковое же творчество, убежден Виноградов, – результат выхода личности из всех узких концентрических кругов тех социальных субъектов, формы которых она в себе носит, творчески их усваивая. Иными словами: «<…> если подниматься от внешних грамматических форм языка к более внутренним <…> и к более конструктивным формам слов и их сочетаний; если признать, что не только элементы речи, но и композиционные приемы их сочетаний, связанные с особенностями словесного мышления, являются существенными признаками языковых объединений, то структура литературного языка предстанет в гораздо более сложном виде, чем плоскостная система языковых соотношений Соссюра. В пределах литературной речи окажется множество языковых контекстов, <…> множество языковых кругов, то как бы включенных один в другой, то пересекающихся по разным плоскостям, и каждый из них имеет специфические, его выделяющие субъектные формы <…> А личность, включенная в разные из этих „субъектных“ сфер и сама включая их в себя, сочетает их в особую структуру. <…> Индивидуальное словесное творчество в своей структуре заключает ряды своеобразно слитых или дифференцированных социально-языковых и идеологических контекстов, которые осложнены и деформированы специфическими личностными формами» [Виноградов 1980: 91]. На основе этих заключений В. В. Виноградов приходит к «имманентному анализу» художественного языка. В соответствии с ним, описание структурных форм произведения должно вестись имманентно избранному поэтическому «сознанию», его индивидуальной языковой культуре и внутренней динамике его идио стиля – такую задачу ставит исследователь перед лингвистической поэтикой (ср. о современных исследованиях по «модели авторского сознания»: [Бутакова 2001]).
* * *
Одной из ключевых, но малоизвестных фигур в формулировке основ лингвистической поэтики и лингвистической эстетики был Б. М. Энгельгардт, до сих пор остававшийся незаслуженно малоизвестной фигурой в русской филологии[14 - Единственной работой, специально посвященной теории словесности Б.М. Энгельгардта, является статья: Муратов А. Б. Феноменологическая эстетика начала XX века и теория словесности (Б.М. Энгельгардт). СПб., 1996.]. Совсем недавно, в 2005 г., по архивной версии был опубликован доклад Энгельгардта 1920-х гг. «Эстетика слова». С 1921 по 1928 г. им готовилась к печати книга «Введение в эстетику слова», которой выйти было не суждено, и сохранился только этот доклад. Кроме того, в 1924 г. Энгельгардт прочел в ГИИИ (Государственном Институте Истории Искусств) доклады «Эстетико-лингвистические предпосылки формального метода» и «Основоположения эстетики слова»[15 - См. ЛО ЦГАЛИ. Ф. 82. Оп. 3. № 21. Л. 70.].
Для Б. М. Энгельгардта эстетика слова являлась частью общей теории словесности, разработанной на феноменологической основе. Основной ход мысли Энгельгардта такой: «С эстетической точки зрения художественное произведение должно рассматриваться прежде всего как особым образом оформленный вещно-определенный (dinglich) ряд: поэтическое произведение как словесный ряд, музыкальное как звукоряд, картина или статуя – как система зримого и пр. и пр.»[16 - Энгельгардт Б. М. (Эстетика слова) // Энгельгардт Б. М. Феноменология и теория словесности. М., 2005. С. 46.]. Разумеется, в этих формулировках отчетливо выражен феноменологический подход. Понятие «вещности», отличное от понятия «вещи» в русском формализме, имеет явные гуссерлианские корни. Феноменологический взгляд приводит к тому, что старые подходы в изучении образности, идейности и т. п. оказываются, с точки зрения Энгельгардта, неприемлемыми для эстетического анализа, ибо они уводят исследователя за пределы самого произведения в сферы мнимых объектов. Отсюда вывод о том, что «Художественное творчество должно мыслиться только как процесс эстетического оформления словесного ряда, то есть установки этого ряда на эстетическую значимость»[17 - Там же.]. «Таким образом, эстетика слова имеет дело, с одной стороны, с эстетически оформленным словесным рядом, а с другой стороны, с этим же рядом в эстетически безразличной форме, как объектом творчества. А в связи с этим ее основной задачей является описание главнейших особенностей эстетически значимых словесных построений сравнительно с прозаическими и выяснение роли этих особенностей в эстетическом обосновании целого». Здесь Энгельгардт вплотную приближается к одному из главнейших параметров художественного произведения – его целостности. Эстетически значимое произведение всегда представляет собой целое, и именно в силу своей целостности оно производит эстетический эффект, и именно в силу целостности должно рассматриваться в эстетическом анализе. «В силу этого, поскольку поэтическое произведение всегда представляет собою сложное словесное образование, понятие словесного ряда в его вещной определенности, с которым оперирует эстетика слова, неизбежно должно охватывать не только всю совокупность отдельных элементов этого ряда по их качественному содержанию, но и момент специфической организованности этих качественных содержаний, то есть их структурное единство»[18 - Там же. С. 47.]. Составные элементы словесного произведения искусства оформляются как целостная и неразложимая структура.
Художественное произведение, подчеркивает далее Энгельгардт, целостно не только по формальному признаку, но и в единстве своего содержания. Отсюда еще один важный вывод для эстетики слова: «Поскольку, с одной стороны, в поэтическом произведении дано эстетическое оформление имманентно-организованного словесного ряда, то есть потенциального словесного образования, постольку, с другой стороны, организующим принципом таких образований являются те системы единоцелостных смыслов, которые ими объемлются, постольку и эти последние, наряду с звуковой формой слова и совокупностью номинативных значений, находят свое эстетическое оформление в поэтическом произведении»[19 - Там же. С. 48.]. Таким образом, семантический треугольник Фреге (знак-значение-смысл) преобразуется в художественном произведении в единосущную триаду: эстетическая форма – номинативные значения – едино-целостные смыслы. Все три составляющие этой триады связаны эстетическим единством художественного произведения. Поэтому Энгельгардт позволяет себе говорить о таком произведении как о замкнутой на себя, внутренне единой структуре только в плане эстетической оформленности смысловых единств словесного ряда. В этом им видится «решительная неудача» сугубо формального подхода к литературному произведению, при котором оно рассматривается вне соотнесения его как единства к едино-целостному смыслу.
Далее Б. М. Энгельгардт вдается в некоторые подробности основных вопросов эстетики слова, а также выясняет связи эстетики слова с общей и частной лингвистикой. Современная лингвистика, с его точки зрения, почти вовсе не обсуждает вопрос о произведении как структурном единстве, ограничиваясь в большинстве случаев изучением отдельного слова[20 - Б.М. Энгельгардт может рассматриваться, наряду с М. М. Бахтиным, одним из ранних предвестников теории текста. Но необходимо оговориться, что лингвистика текста строила свои законы по большей части на почве формального (структурального) метода. Эстетический элемент художественного текста зачастую в лучшем случае лишь принимался во внимание, но редко исследовался в необходимой мере.].
Кстати, знаменательно, что в своем обосновании эстетики слова Б. М. Энгельгардт отталкивается от критики русского формализма. Формализм, с точки зрения Энгельгардта, не способен постичь эстетическое произведение как целостную, внутренне единую структуру: «Дело в том, пишет он, что эстетическая значимость как таковая всегда принадлежит тому или иному образованию, именно как таковому, как целостной, внутренне единой структуре, а не его элементам. В этом смысле эстетическая значимость может быть приравнена к едино-целостному смыслу произведения <…>»[21 - Там же. С. 57.]. Формальная школа, утверждает Энгельгардт, исходя из правильно намеченных предпосылок «эстетики вещи», построила (в соответствии с данными коммуникативной лингвистики) определение поэтического произведения как системы самодовлеющих приемов, «причем его едино-целостный смысл рассматривался как эстетически безразличный материал для реализации чистой словесной формы»[22 - Там же. С. 56.]. Здесь же делается намек на то, какой лингвистикой следует руководствоваться «эстетике слова», чтобы избежать заблуждений формализма. Не удовлетворяясь определениями, полученными от «коммуникативной лингвистики», эстетике слова необходимо их искать в тех направлениях современной лингвистики, где слово рассматривается как «особая форма осознания внутреннего опыта, как сама мысль в известный момент ее внутренне необходимого и исторически обусловленного становления». Не сложно догадаться, каких лингвистов он имеет в виду – это Гумбольдт и вся гумбольдтианская традиция в языкознании конца XIX – начала XX века.
Таким образом, Б. М. Энгельгардт, пользуясь терминологическим аппаратом феноменологии, постулирует ключевые понятия эстетики слова, или лингвистической эстетики: «эстетическая значимость», «эстетический опыт» и «структурное единство» (см. об этом подробнее в [Фещенко 2007]). В совокупности все эти категории составляют художественный язык, язык внутренних эстетических форм конкретного автора и конкретного произведения.
* * *
Переосмысление идеи внутренней формы слова и внутренней формы языка в русской поэтике первой трети XX в. было, таким образом, связано с поисками аналитических инструментов для анализа форм творческого присутствия человека в языке. Когда в 1910—1930-е гг. встала задача конкретно объяснить индивидуальный, не детерминированный нормативными законами языка творческий акт, то выражением этого конкретно-творческого начала в языке стала служить субъективно переосмысленная категория внутренней формы (формы скорее слова, высказывания, текста, чем языка в целом). Изучение особенностей внутренней речи и авторского сознания В. В. Виноградовым и другими русскими учеными этого периода было призвано прояснить природу художественного творчества в его своеобразии и, в связи с этим, природу художественного языка в его отличии от языка обыденной коммуникации. К сожалению, эта линия не стала ведущей даже в творчестве самого Виноградова, не говоря уже о широком контексте семиотики и лингвистической поэтики. Однако повторим, в намеченном им, а также А. Белым, Г. Шпетом, Б. Энгельгардтом, Г. Винокуром, Н. Жинкиным, М. Бахтиным, В. Григорьевым и другими, виде она выглядит сегодня весьма актуальной. Помимо этого, именно такая перспектива исследований в области языка способна пролить свет на своеобразие творческого эксперимента, осуществленного в авангардном искусстве XX в.
Глава 2
«МЕФИСТО-ВАЛЬС ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ». ЯЗЫКОВОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК МЕТОД И ПРИНЦИП В ПОЭТИКЕ И ПОЭЗИИ
Эксперименты с образами и понятиями в воображении полностью аналогичны физическим экспериментам.
Новалис
§ 1. Понятие «языкового эксперимента»
В английском языке слово эксперимент (experiment) по своей внутренней форме тесно связано с понятием «опыта» («expеrience») – «жизненного опыта», «испытания», «знания», «переживания». Принимая в качестве базового для настоящего исследования понятие «эксперимента», мы подчеркиваем взаимосвязь поэтического и научного эксперимента с жизненным опытом. Эта взаимосвязь проявилась с наибольшей силой в эпоху «поиска и эксперимента», или эпоху исторического Авангарда (первые десятилетия XX в.). Художник стал сознательно производить непосредственные опыты над действительностью (над языком, над бытом, над средой обитания и т. д.). В художественной литературе это проявилось в опытной, целенаправленной обработке языкового материала. Эксперимент как метод в поэзии и поэтике основывался на качественном изменении исходного материала с целью создания новых форм сознательного опыта и новой системы жизненных отношений. Естественно, такая «революция жизни» и «революция языка»[23 - Влияние социальной революции 1917 г в России на язык и лингвистику становилось предметом многих языковедческих исследований послереволюционных лет, в частности [Jakobson 1921; Ремпель 1921; Карцевский 1923; Селищев 1928; Андреев 1929; Поливанов 1931]. О полемике по поводу развития русского языка в послереволюционное время см. [Грановская 2005]. О политическом контексте лингвистической революции в раннем Советском Союзе см. [Гаспаров 1999; Gorham 2003; Живов 2005].] были сопряжены с большей или меньшей долей риска для их деятелей. Но ведь исконное значение слова experiment в латинском языке как раз указывает на «риск».
Прежде чем перейти к определению нашего основного понятия – понятия «языкового эксперимента» – необходимо сделать несколько замечаний относительно близких с ним по смыслу терминов, принятых в науке о языке.
Так, под «лингвистическим экспериментом», согласно профильному словарю, понимается в строгом смысле «определение грамматичности и/или приемлемости той или иной языковой формы (обычно построенной на основании некоторой гипотезы об устройстве или функционировании языка) на основании суждения информанта (в частном случае – самого исследователя)». В более широком смысле имеется в виду «применение экспериментальных методов других наук (например, физики или психологии) для решения задач, стоящих перед наукой о языке» [Англо-русский словарь 2001: 213].