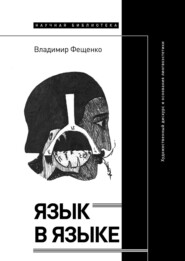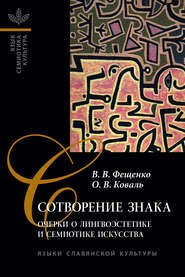По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Что касается расширенного понимания данного термина, сфера его функционирования в основном покрывается исследованиями в экспериментальной фонетике. Экспериментальные методы (называемые иначе «инструментальными») в этой области языкознания призваны наиболее точным образом фиксировать фонетические законы восприятия звуковых явлений. В этой части инструментальные методы смыкаются, например, с экспериментальной акустикой в музыкознании. В пору своего возникновения – во 2-й пол. XIX в. – термин экспериментальные методы связывался с применением приборов в процессе научного поиска (таковы лабораторные исследования В. А. Богородицкого 1900-х гг. по физиологии произношения).
По мере распространения экспериментальной методики с фонетики на другие уровни рассмотрения языка лингвистический эксперимент приобретал новое качество, позволяя изучать факты языка в условиях, управляемых и контролируемых исследователем. Теперь эксперимент предполагал не пассивную регистрацию физических явлений, а активное оперирование объектами. При этом в лингвистическом эксперименте исследователь может иметь в качестве информанта самого себя или других носителей языка; в первом случае говорится об «интроспекции», во втором – об объективном эксперименте. Такой метод экспериментальной работы с языковым материалом закрепился, например, в полевой лингвистике. Широко используются экспериментальные методы в традиционных для языкознания областях, таких как диалектология (С. С. Высотский), при изучении языковых изменений, языковой нормы (Л. В. Щерба), а также в социолингвистике (У. Лабов), семантике (Дж. Лич, Ю. Д. Апресян, О. Н. Селиверстова) и особенно психолингвистике (А. Р. Лурия, А. А. Леонтьев, Р. М. Фрумкина и др.). Для подобных исследований разрабатывается специальная теория лингвистического эксперимента, в задачи которой входит осмысление того, какова специфика познавательных установок лингвиста-экспериментатора (см. [Фрумкина 1981; 1998: 590–591]). Согласно A.M. Шахнаровичу, лингвистический эксперимент служит способом верификации построенной лингвистом модели. При помощи эксперимента лингвист определяет эвристическую ценность модели и, в конечном счете, гносеологическую ценность всей теории [Шахнарович 2004: 9]. Этот принцип находит в настоящее время широкое применение в психолингвистических исследованиях («ассоциативный эксперимент») и в исследованиях по языковым играм [Санников 1999]. На нем же основан и педагогический эксперимент в обучении языку. Педагогическая идея в этом случае выступает как модель познания учеником нового материала.
Часто лингвисты говорят об эксперименте там, где имеет место наблюдение, прежде всего наблюдение над текстами (письменными и устными). Такая трактовка эксперимента была принята, например, в американской школе дескриптивизма, а позднее – в трансформационной грамматике и математическом языкознании. Надо сказать, что даже в естественных науках поныне нечетко разделяются понятия эксперимента и наблюдения. Как правило, наблюдение мыслится как составная часть эксперимента, ответственная за восприятие информации на приборах и т. п. Существенно, что именно в XX в. стала важной инстанция «наблюдателя» и «экспериментатора» (часто они отождествляются). Возникла так называемая концепция автопоэтического наблюдателя. В этой концепции наблюдатель (человек) – это сложная развивающаяся система, которая имеет способность не только к самопроизводству и воспроизводству, но и самореферентности, работая с собственными описаниями как с независимыми сущностями. Такое новое, синергетически-когнитивное, понимание концепта «наблюдателя» («экспериментатора») знаменует собой переосмысление сути научного эксперимента, равно как и формирует новый образ субъективности в процессе обретения знаний. В современной лингвистике этому новому вызову отвечают исследования таких авторов, как У. Матурана, В. Налимов, Д. Деннетт и др. Когнитивная наука в этой связи разрабатывает новый подход под названием «экспериенциализм», или «опытный реализм» (Дж. Лакофф).
Эксперимент как способ научного и художественного познания является объектом интереса и для философов, в том числе методологов науки [Налимов 1971; Шредингер 1976]. Дефиниция этого понятия в новейшей философской энциклопедии формулируется следующим образом: «Эксперимент (лат. experimentum – проба, опыт) – род опыта, имеющего познавательный, целенаправленно исследовательский, методический характер, который проводится в специально заданных, воспроизводимых условиях путем их контролируемого изменения». Как указывает автор статьи, эксперимент понимается в Новое время не просто как «метод познания», не просто архитектоническое начало всей познавательной стратегии новоевропейской науки, но конститутивный момент мышления Нового времени, в соответствии с которым оно в целом может быть названо «экспериментирующим мышлением» [Ахутин 2001: 425]. Другими словами, действие экспериментального принципа не ограничивается только областью практики, но распространяется также и на теоретическое мышление. В начале XX в. особую научную ценность приобрел так называемый мысленный эксперимент, т. е. познавательная деятельность, в которой структура реального эксперимента воспроизводится в воображении. Так, мысленный эксперимент в обосновании А. Эйнштейна означал не просто свободу моделирования – было осознано, что всякий опыт есть выражение концептуализации мира, что прибор, а затем и наблюдаемый объект есть продолжение и воплощение языка формул и абстракций [Шифрин 1999]. Для сферы художественного творчества это может означать то, что эксперимент реализуется здесь не только в плане практическом (поэтическом), но и в теоретическом (метапоэтическом).
* * *
По аналогии с научной трактовкой эксперимента уже в конце XIX – начале XX в. сформировалось понимание эксперимента в художественном мышлении. Сама идея соединить в художественном творчестве элементы научно-экспериментального и художественно-поэтического стилей восходит к литературной теории натурализма. Эмиль Золя, признанный глава натуралистической школы во Франции, был увлечен идеей литературы документа, создания «научного романа». В своей известной работе «Экспериментальный роман» (1879), опираясь на книгу физиолога К. Бернара «Введение в изучение экспериментальной медицины», он попытался ввести в литературу данные естественно-научных открытий.
Следуя этим веяниям, уже русский филолог Д. Н. Овсянико-Куликовский заразился идеей применения к литературоведческим знаниям точных, как ему казалось, почти математических мерок. Вначале он опробовал эти мерки в статьях о Гоголе и Чехове, потом обобщил в отдельной работе «Наблюдательный и экспериментальный методы в искусстве» (1903). Разделив – в духе Э. Золя – искусство на «наблюдательное» и «экспериментальное» Овсянико-Куликовский приписывает последнему «нарочитый подбор черт» и «особое освещение образам», в то время как в первом, по его словам, дается «по возможности правдивое воспроизведение действительности», картина освещается «так, как освещена сама действительность». Если художник-экспериментатор «делает своего рода опыты над действительностью», то художник-наблюдатель изучает ее и, давая выход своим наблюдениям и изучениям, старается «соблюдать пропорции». Примеряя свою теорию к конкретным литературным образцам, Овсянико-Куликовский пишет: «Истинный художник-экспериментатор (например, у нас Гоголь, Достоевский, Глеб Успенский, Чехов) производит свои опыты не иначе как на основе близкого и внимательного изучения жизни, которое, конечно, немыслимо без широких и разносторонних наблюдений. Иначе говоря, художник-экспериментатор является в то же время и наблюдателем. Но в отличие от художников наблюдателей в тесном смысле он в своем творчестве не дает полного выражения своим наблюдениям, а только пользуется ими как средством или пособием для того, чтобы правильно поставить и повести свои опыты. При всем том, однако, в их созданиях мы всегда находим массу черт, указывающих на то, что экспериментатор был в то же время и тонким, вдумчивым наблюдателем жизни в ее многоразличных проявлениях» [Овсянико-Куликовский 1914: 99– 100]. Любопытно, что русский литературовед причисляет к кругу писателей-экспериментаторов не только таких «темных» писателей, как Гоголь и Достоевский (подобно тому, как позднее уже в философском ключе поступит Н. А. Бердяев), но и достаточно «ясных» и «прозрачных» по стилю Чехова и Г. Успенского[24 - Ср. в этой связи с попыткой современного русского философа В. Подороги построить «аналитическую антропологию литературы» на примере «другой» русской литературы. Определяя традицию Н. Гоголя, Ф. Достоевского, А. Платонова, А. Белого, Д. Хармса, А. Введенского как «другую» или «экспериментальную», отделяя ее от «придворно-дворянской» или «классицистской» литературы «образца», он указывает тем самым на конфликт между двумя «видениями мира». См.: Подорога В. А. Мимесис. Материалы по аналитической антропологии литературы. Т. 1. Н. Гоголь., Ф. Достоевский. М., 2006, особ. с. 9—13. Второй том, посвященный собственно литературе авангардной, в настоящее время готовится к печати.].
Принимая во внимание эти рассуждения об эксперименте в литературе, необходимо иметь в виду, что речь здесь еще не идет о полноценном экспериментальном искусстве (скорее – лишь о подступах к нему). Под последним принято понимать более позднее искусство авангарда, а также связанные с этим искусством процессы в языковом плане художественного творчества. Данная же концепция Овсянико-Куликовского зарождается еще в литературно-критическом контексте, не имея под собой собственно лингвистических оснований. В интерпретации Овсянико-Куликовского слово эксперимент еще не добирает того содержания, которое имеем в виду мы, говоря об «экспериментальном творчестве» и «языковом эксперименте». Между тем существенно в этой концепции уже то, что сама проблема эксперимента оказывается поставленной в связи с литературно-художественным материалом[25 - Ср. также с замечанием Н. Бердяева о том, что все творчество Достоевского представляет собой «антропологические опыты и эксперименты», «гениальные эксперименты над человеческой природой» («Откровение о человеке в творчестве Достоевского»). В этой работе 1918 г. Бердяев развивает тему антропологического эксперимента: «Достоевский был прежде всего великий антрополог, исследователь человеческой природы, ее глубин и ее тайн. Все его творчество – антропологические опыты и эксперименты. Достоевский не художник-реалист, а экспериментатор, создатель опытной метафизики человеческой природы» (Бердяев H. А. Смысл творчества: Опыт оправдания человека. Харьков; М., 2002. С. 338). В другой работе, написанной в 1923 г, – «Миросозерцание Достоевского» – русский философ высказывается еще более определенно, относя Достоевского к разряду художников-исследователей, которые в своем художестве совершают антропологические открытия. Достоевский, по Бердяеву, открывает новый метод – метод «духовного эксперимента»: «Художественная наука или научное художество Достоевского, – пишет он, – исследует человеческую природу в ее бездонности и безграничности, вскрывает последние, подпочвенные ее слои» (Там же. С. 406).]. Отдельную значимость в свете нашей темы представляет также сопоставление Д. Н. Овсянико-Куликовским законов художественной, обыденной, научной и философской мысли. Что еще более важно для нас, в роли единого источника «прозы мысли» и «поэзии мысли» он полагает язык и его элементы. «Интимные узы», связующие художественное познание с обыденным и научным, даны, по его мысли, именно в языке, в словесном творчестве. Ученый неоднократно подчеркивает значение научного языкознания для психологии мысли и психологии творчества. Характерен подзаголовок указанной нами его статьи – «К теории и к психологии художественного творчества». Наконец, совсем не посторонним для современной лингвистики и теории интерпретации, в том числе и для нашей собственной концепции, кажется нам следующий тезис Овсянико-Куликовского: «<…> понять художника в его данном произведении значит повторить вслед за ним его наблюдения или его эксперименты» [Овсянико-Куликовский 1914: 142]. В таком плане мысли литературная и языковая критика тоже приобретает характер экспериментальности.
* * *
Намеченное Д. Н. Овсянико-Куликовским сближение науки и искусства на базе единого творческого эксперимента было продолжено в 1900—1910-е гг. в поэтологических исследованиях Андрея Белого [Фещенко-Такович 2002]. Некоторые аналогии между миром искусства и миром науки были предложены им в статье «Принцип формы в эстетике» (опубл. 1910). В ней, используя данные физики и химии, он попытался обосновать «закон сохранения творчества» по аналогии с «законом сохранения энергии» в физической теории. В поисках оснований для выводимой им «формальной эстетики» он обращается к понятию «эксперимента»: «Эмпирическая эстетика может существовать в самой разнообразной форме в зависимости от того, что считать экспериментом и описанием в области эстетики; произведения искусства можно описывать с точки зрения приема работы, с точки зрения психологического содержания образов, с точки зрения воздействия того или иного содержания или приема работы на психологию и физиологию зрителя и слушателя и т. д. В зависимости от этого эстетики такого типа принимают самую разнообразную форму (физиологическая эстетика Фехнера, эстетика „вчувствования“ Липпса, искусствоведение эстетики Штумпфа и его школы и т. д.)» [Белый 1910b: 524]. Как явствует из этого пассажа, в своих поисках оснований экспериментальной эстетики А. Белый отталкивался от достижений немецкой школы экспериментальной (Г. Т. Фехнер, Г. Гельмгольц) и феноменологической (К. Штумпф) психологии, а также экспериментальной эстетики (И. Фолькельт, Т. Липпс). Однако его не устраивало большинство современных ему учений в области экспериментальной психологии и эстетики, в связи с чем им был предложен собственный метод научного эксперимента.
Обоснованию необходимости «экспериментальной эстетики» как науки А. Белый посвятил отдельную статью «Лирика и эксперимент» (опубл. 1910). Основной вопрос, обсуждаемый здесь, звучит так: «Возможна ли эстетика как точная наука?». «Да, вполне возможна», – заявляет Белый. Поскольку объект искусства (прекрасное, красота) может быть объектом научно-позитивного исследования. Задача же точной эстетики – реконструировать «эстетический опыт в ряде мировых памятников красоты», «анализировать памятники искусств, вывести закономерности, их определяющие <…>» [Белый 1910а: 234].
Будучи поэтом, мастером поэтического слова, А. Белый, естественно, мыслит в качестве главного для себя объекта так понимаемой экспериментальной эстетики прежде всего словесно-художественное творчество. Какова же в таком случае область науки о лирической поэзии? Это «конкретный материал в виде лирических произведений разных народов от древности до наших дней». При этом особенность экспериментального подхода заключается, по мнению Белого, в том, что «само лирическое стихотворение, а не отвлеченные суждения о том, чем оно должно быть, ложится в основу исследования» [Там же: 239]. В этом ключевое новшество предлагаемого метода: рассматривать произведение словесного творчества как таковое, с точки зрения его уникальной структуры и индивидуального художественного языка.
С самого начала своих размышлений А. Белый специально подчеркивает новую роль языкознания в экспериментальной поэтике: «<…> изучение слов и их расположение соприкасается с филологией и лингвистикой» [Там же: 240]. Наука о языке придает большое значение форме, будь то форма грамматическая или форма высказывания. Как раз этого, считает Белый, и недостает современной ему эстетике и поэтике. «Проблема речи» актуализирует значимость «простейшей данности формы»; а в науке о поэтической речи «прямыми данными эксперимента» являются слова. Поэтому «проблема языка, приведенная к более сложным проблемам эксперимента, имеет существенное значение в лирике; язык, как таковой, есть уже форма творчества; с данностью этого творчества приходится очень и очень считаться» [Там же: 571–572]. Следуя этой логике. Белый привлекает к своим экспериментальным исследованиям поэтической речи теории языка А. Потебни, В. фон Гумбольдта, В. Вундта, X. Штейнталя, К. Фосслера и других; и приходит к важному выводу: «Отсюда видно, до чего тесно срастаются между собой частные проблемы экспериментальной эстетики с наиболее общими проблемами языкознания; или обратно: в языкознание проблемы поэзии входят, как части некоторого целого» [Там же].
Концепт «эксперимента» у А. Белого уже приобретает наиболее важные свои черты. Во-первых, это принцип опытной, целенаправленной обработки материала, в данном случае языкового (этот принцип в превосходной степени реализован Белым в его исследованиях по «сравнительной морфологии» стихотворного языка, по «ритму» русских поэтов, по языковому новаторству Гоголя). Во-вторых, представление о том, что научный эксперимент смыкается по своим формальным, а подчас и функциональным признакам с художественным экспериментом, когда поэт работает с языковым материалом так, как опытный исследователь. («Кроме тонко развитого зрения, дающего возможность глубоко проницать всякую действительность (ту или эту), поэт есть прежде всего художник формы; для этого он должен быть еще и опытным экспериментатором; многие черты художественного эксперимента странным образом (каким именно образом, Белый пока не поясняет, это вопрос для последующих исследователей. – В. Ф.) напоминают эксперимент научный, хотя методы экспериментирования здесь sui generis» [Там же: 597]). И в-третьих, это догадка о собственно языковой сущности поэтического эксперимента, его направленности на язык par excellence.
Любопытно отметить, что к такому же пониманию эксперимента приблизился и О. Мандельштам в своем «Разговоре о Данте», утверждая, что в дантовском подходе к словесному и мифологическому материалу имеются налицо все элементы экспериментирования. «А именно: создание специальной нарочитой обстановки для опыта, пользование приборами, в точности которых нельзя усомниться, и проверка результата, апеллирующая к наглядности» [Мандельштам 1933: 712]. Это еще раз подтверждает, что обращение к проблематике художественного эксперимента (ср. с соображениями о широко понимаемом «творческом эксперименте» [Терехина 2008], более специально трактуемом «поэтическом эксперименте» [Николина 2001; Фатеева 2002; Фатеева 2003: 83; Дудаков-Кашуро 2003; 2007] и «лингвистическом эксперименте» [Зубова 1989; Аксенова http]; ср. также с дискуссиями немецких литературоведов: [Schwerte 1968; Das Experiment in Literatur und Kunst 1974; Heissenb?ttel 1972; Horch 1987; D?hl http]) – было и знаком времени, и новым взглядом на мир (а что как не новый взгляд на мир – глазами Данте – осуществляет в своем очерке автор, повинуясь кружащему голову «мефисто-вальсу эксперименированья»?).
* * *
Несколько с другой стороны в тот же исторический период к проблематике эксперимента подходили исследователи естественного языка.
На самом рубеже веков И. А. Бодуэн де Куртенэ опубликовал статью под названием «Языкознание, или лингвистика XIX века». Не ограничившись, как это следовало бы из заглавия, рассмотрением учений о языке девятнадцатого века, в ней он сформулировал ряд задач, которые, по его мнению, предстояло решить языкознанию XX в. Наряду с тезисом о необходимости исходить всюду и везде из исследования живых языков, доступных для наблюдения, среди задач упоминается и внедрение эксперимента в языкознание: «Где только можно, применять метод эксперимента. Это лучше всего осуществимо в антропофонике, которая должна расширить объем своих наблюдений, включив, с одной стороны, звуки, издаваемые животными, а с другой стороны, языки с особенностями произношения, которые до сих пор оставались непонятными для нас» [Бодуэн де Куртенэ 1901: 16]. Любопытно, что следующей после этой задачей Бодуэн называет «замену знаков алфавита знаками транскрипции на основе анализа или разбора звуков различных языков» [Там же], т. е. предлагает по сути семиотический эксперимент в научной практике.
С точки зрения Бодуэна де Куртене, языкознание должно включать в себя три основных дисциплины: аналитическую лингвистику, нормативную и синтетическую. При этом под аналитической лингвистикой он имел в виду дисциплину, которая должна заниматься исследованием грамматики и лексики естественных языков, под нормативной лингвистикой – дисциплину, которая должна заниматься выработкой рекомендаций по кодификации и нормализации литературных языков, а под синтетической лингвистикой – дисциплину, которая исследует опыт создания искусственных языков, языковые эксперименты над естественными языками, исследует опыт любых попыток сознательного вторжения в языковую деятельность, дает рекомендации по созданию искусственных языков с заранее заданными свойствами. К сожалению, инициатива ученого не была поддержана в полной мере. Если аналитическая и нормативная лингвистика получили свое дальнейшее развитие, то синтетическая лингвистика как обязательный компонент теоретического языкознания, так и не была создана. Отчасти этот пробел заполняет получившая в последнее время развитие интерлингвистика, однако уже сам этот термин ограничивает область изучения в основном теми искусственными языками, которые претендуют на роль лингва франка. В предметную область этой дисциплины не входят, таким образом, формальные языки науки типа, например, фрегевского Begriffsschrift, языки программирования, языки и идиомы, которые во множестве строятся в рамках художественного творчества, как, например, эльфийский язык Толкиена.
Одним из первых в XX в. об эксперименте в лингвистике заговорил ученик Бодуэна Л. В. Щерба. Критикуя младограмматические методы работы с языковым материалом, Щерба призывает исследовать живые языки во всем их качественном многообразии. Исследователь живых языков должен поступать так: построив из фактов языкового материала некую отвлеченную систему, необходимо проверять ее на новых фактах, т. е. смотреть, отвечают ли выводимые из нее факты речевой действительности. Таким образом, в языкознание вводится «принцип эксперимента». «Сделав какое-либо предположение о смысле того или иного слова, той или иной формы, о том или ином правиле словообразования или формообразования и т. п., следует пробовать, можно ли сказать ряд разнообразных фраз (который можно бесконечно множить), применяя это правило <…> Не ожидая того, что какой-то писатель употребит тот или иной оборот, то или иное сочетание, можно произвольно сочетать слова и, систематически заменяя одно другим, меняя их порядок, интонацию, и т. п., наблюдать получающиеся при этом смысловые различия, что мы постоянно и делаем, когда что-либо пишем» [Щерба 1931: 32]. Конечная цель предложенного метода, его преимущество виделись Щербе в создании адекватной грамматики и словаря живого языка. Для нас, однако, здесь важно подчеркнуть два момента в его размышлениях, касающиеся существа экспериментального метода.
Так, неотъемлемой процедурой лингвистического эксперимента Л. В. Щерба считает сбор «отрицательного языкового материала». Под «отрицательным материалом» имеются в виду «неудачные высказывания с отметкой „так не говорят“»[Там же: 33]. Например, рожденная в недрах этого принципа знаменитая фраза Щербы «глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит бокренка» являет собой частный случай лексического эксперимента. Как будет прояснено ниже, такое экспериментирование с различными единицами и уровнями языка станет составной частью «лингвопоэтического эксперимента» [Григорьев 2000: 67; Weststeijn 1978; Степаненко 2003: 223] в поэтике авангарда. В этом отношении справедливо причисление некоторыми исследователями фигуры Л. В. Щербы к общеавангардному контексту русской культуры начала XX в. см. [Казанский 1999; Двинятин 2003; Успенский 2007].
Вторым моментом, заслуживающим внимания в свете нашего предмета, является убежденность Л. В. Щербы в важности самонаблюдения в языкознании. Действительно, самоописательность выступает как ключевое звено во многих языковых процессах, как внутриязыковых (в случае автонимического употребления, например: «В бегемоте семь букв»), так и коммуникативных (к примеру, речь о себе перед лицом другого). В лингвистическом же эксперименте элемент самонаблюдения и самоконтроля наличествует в большей консистенции (ср. с трактовкой самонаблюдения как «понимания собственного внутреннего знака» в философии языка В. Н. Волошинова [Волошинов 1929]). Самонаблюдение при этом не приравнивается к субъективности. Опасаясь быть уличенным в субъективизме, Л. В. Щерба специально оговаривает это, призывая понимать самонаблюдение «в ограничительном смысле»: «Для меня уже совершенно очевидно, что путем непосредственного самонаблюдения нельзя констатировать, например, „значений“ условной формы глагола в русском языке. Однако, экспериментируя, т. е. создавая разные примеры, ставя исследуемую форму в самые разнообразные условия и наблюдая получающиеся при этом „смыслы“, можно сделать несомненные выводы об этих „значениях“ и даже об их относительной яркости» [Щерба 1931: 33]. Так или иначе русский лингвист вольно или невольно «проговаривает» здесь важный вопрос, имеющий отношение к концепту «языкового эксперимента». Это вопрос о самонаблюдении, самоидентификации и, вообще, о структуре «самости» в экспериментально-языковом процессе. Различные грани этого вопроса будут освещаться нами далее по мере развертывания темы.
Как отмечает H. Н. Казанский, «эксперимент в лингвистике приобретает в культурном контексте 10-х годов черты научного метода, самоценного во многих областях гуманитарных наук <…>» [Казанский 1999: 831]. Экспериментом в научной поэтике занимался Б. И. Ярхо. В его опубликованных записях из архива имеется указание на два типа эксперимента: «а) эксперимент над восприятием; б) эксперимент над творчеством» (в публикации [Гаспаров 1969: 520]). Совмещая данные литературоведения и естествознания, Ярхо стремился обосновать единый сравнительно-статистический метод, поддержанный показом и экспериментом. В ряду экспериментальных работ по лингвистике стоит упомянуть также планировавшуюся программу деятельности Фонологического отдела Гинхука в 1923—24 гг. Из сохранившегося протокола явствует, что этот отдел, во главе которого стоял поэт Авангарда И. Г. Терентьев, предполагал «производить научную (исследовательско-изобретательскую) работу в области звука, анализируя материальный состав его с целью наилучшего технически-индустриально-художественного применения <…> Методом Фонологического отдела является научно-экспериментальный и статистический метод – метод аналогии в расширенном и усовершенствованном виде, т. е. „метод изобретения“» [Из материалов 1996: 115]. Объект исследования по данной программе складывался, согласно документу, из трех частей: 1) исторического материала; 2) живого языка современности и 3) возможности применения звука в процессе создания интернационального языка. Хотя, по всей видимости, многого из запланированного осуществить сотрудникам Фонологического отдела не удалось (по вполне известным идеологическим обстоятельствам), любопытным нам представляется сама постановка задач в русле экспериментальной методологии[26 - Этот пласт лингвистических и паралингвистических штудий 1920—30-х гг получает в современной истории лингвистических учений весьма характерное и удачное наименование «лингвистического модернизма», или «языковедного андерграунда» [Базылев, Нерознак 2001: 14].].
Об эксперименте в стилистике в те же годы говорит А. М. Пешковский, называя его необходимейшим орудием лингвистического анализа. При этом он полемически отталкивается от экспериментальной поэтики А. Белого: «Дело идет о стилистическом эксперименте, и притом в буквальном смысле слова, в смысле искусственного придумывания стилистических вариантов к тексту, а отнюдь не в том смысле, который так неудачно придавал этому слову Андрей Белый в своем „символизме“ и который вслед за ним придают ему сейчас многие (так наз. „экспериментальное“ изучение стиха, не заключающее в себе ни малейшей доли эксперимента, а лишь тщательное и пристальное наблюдение). Так как всякий художественный текст представляет собою систему определенным образом соотносящихся между собой фактов, то всякое смещение этих соотношений, всякое изменение какого-либо отдельного факта ощущается чрезвычайно резко, и помогает оценить и определить роль элемента, подвергшегося изменению» [Пешковский 1927: 29][27 - О стилистическом эксперименте А. М. Пешковского см. [Гвоздев 1952].].
Выделенные А. М. Пешковским разрядкой термины (эксперимент, система, смещение, изменение) отмечают ряд конститутивных признаков экспериментального метода. Эксперимент – системное явление, основанное на качественном изменении исходного материала, на смещении пропорций в его структуре, с целью его преобразования. Уже в этом, предварительном для нас определении, отчетливо формулируется мотив деформации и реформации материала, свойственный также, как мы попытаемся показать, эксперименту в художественном творчестве (языковому эксперименту).
Принимая во внимание все отмеченные характеристики самого термина эксперимент, а также бытование и концептуальное наполнение данного термина в различных областях – от философии науки до лингвистики и стилистики, рассмотрим теперь более пристально сущность явления эксперимента в авангардном художественном творчестве. Употребляя далее термин языковой эксперимент, мы будем иметь в виду именно эту сферу его реализации – область словесного творчества.
§ 2. Параметры и характеристики языкового эксперимента в авангардной формации
Подчеркнем, что проблема эксперимента возникает в указанный временной период (1910—30-е гг.) параллельно в научном и художественном контекстах. Происходит своего рода конвергенция познавательных моделей. Исследования в естественных и гуманитарных науках в своих результатах обнаруживают многие сходные позиции с художественным дискурсом [Иванов 2007], в центре внимания оказывается особый опыт схождения опыта и рефлексии, совокупное усилие эстезиса и логоса. При этом эстетический опыт влияет на рефлексию, и наоборот: «Эстетический опыт прочитывается как непосредственная воплощенность теории, которая предстает как манифестация опыта» [Грякалов 2004: 79]. В перенесении методов науки на методы искусства состоит, согласно Т. Адорно, «идея экспериментирования».
Она «переносит принцип сознательного использования имеющихся в распоряжении материалов, противостоящий представлению о бессознательно-органичной обработке их, из сферы науки на искусство» [Адорно 2001: 58]. В свою очередь этот процесс отражается на чисто языковом уровне. Зачастую художественная речь не только приобретает черты научности, но и претендует на строго научный статус (случай В. Брюсова, В. Хлебникова, А. Белого, С. Кржижановского). Со своей стороны научный, или научно-философский, дискурс оборачивается художественным или околохудожественным, неся в себе поэтические элементы (тот же А. Белый, Г. Шпет, М. Гершензон). Другими словами, помимо культурологического аспекта взаимовлияний науки и искусства, заставляет говорить о себе и дискурсивный, чисто языковой синтез, получающий выражение в конкретных текстах. Ярким примером здесь могут служить трактат В. Хлебникова «Доски судьбы» и произведение А. Белого «Жезл Аарона» (ср. также «Глоссолалию» Белого с «Зангези» Хлебникова, разбираемыми нами ниже, в соответствующих главах).
Не совсем корректным в этом смысле нам кажется следующее мнение Г. А. Белой: «<…> авангардистское миропонимание начало складываться в эпоху сциентизма и потому рассматривало все явления в мире, в том числе человека и искусство, как нечто аналогичное науке и могущее быть выверенным научным и рационалистическими методами» [Белая 2003: 370]. Дело в том, что время, когда начинал складываться авангард, как раз уже не было эпохой сциентизма (последний был характерен для предшествующей, позитивистской эры – конец XIX в.), а, следовательно, попытки рассматривать все явления как «нечто аналогичное науке» возникали отнюдь не «оттого». Напротив, авангардное сознание было направлено на преодоление позитивизма во имя нового синтеза – синтеза научного и художественного мышления, рационального и иррационального творчества. И уже эта установка влияла на конкретные формы творчества, на конкретный дискурс (сочетающий в себе черты научного и художественного) и на конкретные языковые произведения.
Г. А. Белая в общем справедливо отмечает важность «стенограммы творческого процесса» для А. Белого и всех художников-экспериментаторов, равно как и акцент на «„синтезе материалов“, стремление к интеграции впечатлений и художественных средств, их воплощающих» [Там же: 372]. Однако ее вывод о том, что в рационализации творческого процесса «окончательно снимается» ощущение его непосредственности, представляется слишком прямолинейным.
В таком же, по нашему мнению, не достаточно обоснованном, ключе выдержано утверждение И. Е. Васильева о том, что в поэзии Хлебникова «интеллектуализация» «ослабляла лирическую составляющую стиха», а «ведущим становился „научный“ подход <…>, нейтрализующий апелляцию к душе и сердцу» [Васильев 2000: 33]. Так называемый научный подход отнюдь не затмевал художественных качеств поэтического языка в экспериментальном авангарде; анализ не был самоцелью в поисках авангарда – он был необходимым этапом к конечному синтезу.
Данный принцип сказывался и на языковом воплощении авангардных экспериментов (см. о французском авангарде [Lacoue-Labarthe 1986; Pensеe de l'expеrience 2005]). Структура экспериментального текста обусловлена абсолютно равноправным взаимодействием научного и художественного дискурсов. Вследствие этого такой текст может рассматриваться и как теоретический, и как поэтический. Показательный пример такого рода текстов – трактат Игоря Терентьева «17 ерундовых орудий», где сами «орудия» (законы) построения поэтического текста даны во второй части работы в виде заумных стихотворений, определенным образом коррелирующих с выдвинутыми в первой части теоретическими положениями (см. [Терентьев 1919]).
А. Черняков называет эту особенность языкового эксперимента «полидискурсивностью», понимая под ней «соположение и взаимовлияние поэтического и научного дискурсов». «Именно область дискурса наиболее полно эксплицирует принципиальную биполярность рассматриваемых текстов: перед нами одновременно и научный (точнее, квазинаучный), и художественный текст. В силу этого дискурс альтернативной теории (т. е. языкового эксперимента. – В. Ф.) постоянно балансирует между стратегиями поэтического языка и научного метаязыка, склоняясь либо в одну, либо в другую сторону, либо же задействуя их в равной степени» [Черняков 2001: 67]. Экспериментальная литература авангарда обнаруживает теснейшую связь с зарождающимися параллельно в сугубо научном контексте теориями языка. При этом круг явлений, объединяемых А. Н. Черняковым понятием «альтернативная теория поэтического языка», демонстрирует «единство общих тенденций, свойственных метаязыковой рефлексии литературы первой трети XX века: центральные теоретические концепты здесь стремятся выйти за рамки отдельных литературных течений и в этом смысле могут быть определены как своего рода универсалии» [Черняков 2007: 8].
Авторы известной пионерской статьи о Мандельштаме справедливо отмечают, что «лингвистический эксперимент» (кстати, в данном случае этот термин совпадает содержательно с термином «языковой эксперимент» в нашей трактовке – ср. выше), который был поставлен поэтом, есть результат «сознательной ориентации на филологию и соотнесение своих творческих достижений с ее выводами» [Левин и др. 1974: 286]. Помимо О. Мандельштама, такой ориентацией в наибольшей степени были отмечены А. Белый (как в своей «теорией слова», так и собственно в «поэзии слова»), В. Хлебников (в своей «воображаемой филологии» [Григорьев 2000]), «чинари» (Л. Липавский в своей «теории слов» [Липавский 2000], см. [Цивьян 20016] и А. Введенский в конкретных поэтических опытах по верификации языка). В той или иной степени проблема «поэтической филологии» интересовала и М. Цветаеву, и В. Маяковского и других мастеров авангарда.
Творцов науки и творцов искусства объединил используемый ими «аналоговый инструментарий», т. е. способ мыслить «аналогиями», отчетливыми в случае ученых и скрытыми у художников. Не случайно именно на этом временном отрезке у представителей различных дисциплин и видов искусств возникает интерес к общей методологии творчества, к единому инварианту разных родов культурной деятельности. Близость ученых к поэтам и художникам авангарда служила толчком к занятиям научной поэтикой и лингвистикой. Роман Якобсон в этой связи позже вспоминал: «Нас одинаково звали вперед дороги к новому эксперименетальному искусству и к новой науке – звали именно потому, что в основе и того, и другого лежали общие инварианты» [Якобсон 1999: 80]. Как отмечает Б. Шифрин, в эпоху Авангарда пришло более глубокое постижение установок созидающего сознания; обнаружилась общность пафоса моделирования в науке и в искусстве [Шифрин 1999: 104].
Ковергенция затрагивает самые разные сферы исследования. Так, психология обращает свои взоры на процессы, протекающие в творческом сознании. Л. С. Выготский пишет: «Оказывается, что поэзия и искусство есть особый способ мышления, который в конце концов приводит к тому же самому, к чему приводит и научное познание (объяснение ревности у Шекспира), но только другим путем. Искусство отличается от науки только своим методом, то есть способом переживания, то есть психологически» [Выготский 1965: 42]. Знаменитому психологу уже с эстетических позиций вторит С. Эйзенштейн, сам проявлявший глубокий интерес к вопросам психологии творчества.
Говоря о двух различных языках культуры – «языке логики» и «языке образов» (имеются в виду соответственно научный язык и художественная речь), он призывает к отказу от этого противопоставления, заявляя: «Науку и искусство мы не желаем далее качественно противопоставлять» [Эйзенштейн 1964: 35].
Данные различных областей знания и творчества начинают свидетельствовать, что теория и практика, наука и искусство действуют в своем поиске и построении аналогичным образом. Так, для П. А. Флоренского этот круг вопросов связан с тем, как соотносятся в символической (семиотической) деятельности образ и описание: «Но что же значит эта обузданность образа, наук ли, искусств ли? Как возможно образу не обращаться в трансцендентный описанию предмет, но быть имманентным знанию орудием его? О чем свидетельствует эта нерушимая связанность образа и описания? – О чем же ином, как не об однородности описания и образа. Иными словами, самое описание есть образ или система образов, но взятые критически, т. е. именно как образы; и, обратно, образы, содержимые в описании, суть не что иное, как сгустки, уплотнения и кристаллы того же описания, т. е. самое описание, но предельно живое и стремящееся уже, – вот-вот – к самостоятельности» («Символическое описание»). Решение этой загадки заключается в распространении на науку и на любое другое символическое описание той антиномии слова (образа, символа) и описания (речи), которую Флоренский обнаружил в языке. Речь идет о том, как описание – научное ли, художественное ли – складывается из образов: «основные образы, распределяющие главные линии этой живописи словами, состоят из образов второстепенных, те, в свой черед, – опять из образов, и так далее. Основной ритм осложняется вторичными, те – третичными, а все же они, осложняясь и сплетаясь, образуют сложную ритмическую ткань. Итак: если принять за исходную точку наших рассмотрений образ, то и все описание действительности окажется пестрым ковром сплетающихся образов». Таким образом, различие между научным и художественным дискурсом («описанием» в терминологии Флоренского) состоит лишь в различной степени образности языка описания.
Первые значительные наблюдения относительно претензий художественного языка на выражение научных истин были высказаны теоретиками символизма. Во Франции возникло целое явление «научной поэзии». Рене Гиль, который состоял в активной переписке с русскими символистами, в частности с В. Брюсовым, в «Трактате о слове» (1896) утверждал, что вся современная поэзия, ее темы, образы, лексика и пр. должны определяться современным научным мировоззрением (ср. также [Richards 1926]). По замечанию И. П. Смирнова, «ввиду того, что искусство, по мысли символистов, помимо чувственного опыта приобщает человека сверхреальности, оно перестанавливается в иерархической структуре познавательных ценностей на ступень выше по сравнению с эмпирической наукой, начинает конкурировать с ней, приобретает экспериментальный облик и делает одной из преобладающих свою когнитивную функцию» (разрядка наша. – В. Ф.) [Смирнов 2001: 39]. Это обстоятельство, кстати, позволяет скорректировать тезис Р. Якобсона о преобладании эстетической функции в поэтическом языке. Экспериментальное поэтическое творчество на равных правах задействует также и другие традиционные функции языка, в их числе и когнитивную функцию (ср. со сходными поисками в области современной поэзии, комментируемыми в статьях [Северская, Григорьев 1989] и [Аристов 2000]).