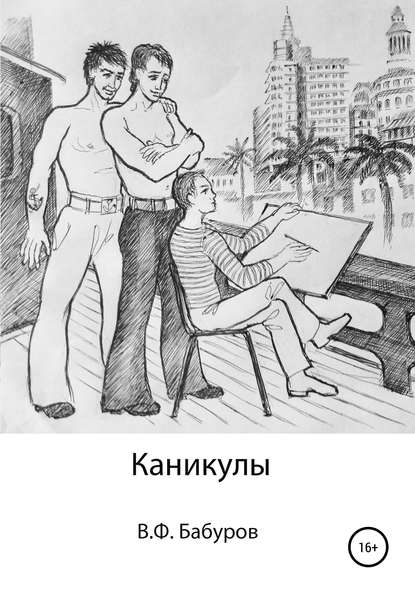По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Каникулы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Он не замкнутый. Он тебя боится или стесняется. А на деле – очень даже продвинутый. «Сумму технологий» Лема читал, об искусстве здорово рассуждает. Да и в технике – не дурак. И о военных кораблях всё знает, и про дизельэлектроходы мне рассказывал…
– Ну что ж. Надо будет с ним поговорить, раз он такой продвинутый. А то напишу ему в характеристике, что он дурак дураком. Ещё отчислят парня, а ты говоришь – умный. Ладно. Занимайся искусством, дыши своим скипидаром да иллюминатор открой, а то и меня наркоманом сделаешь. А я спать пошёл. Устал сегодня. В машине проблемы были…
Честно говоря, моя живописная подготовка была не настолько велика, чтобы я взялся за кисть без внутреннего содрогания. Конечно, раньше, ещё до поступления в институт, один знакомый отцу художник посоветовал мне для освоения техники масляной живописи делать копии с репродукций картин из книг или журналов. В том захолустном городишке, где проходили мои детство и юность, о подлинниках искусства не приходилось и мечтать.
Следуя этому великодушному совету, я сделал несколько, трудно сказать, копий, по возможности стараясь соблюдать все технологические параметры. Этот опыт, кстати, помог мне впоследствии поступить на худграф. На первом курсе, который я только и успел окончить, к масляной живописи нас ещё не допускали, считая достойными пока что акварели, поэтому мои детские ещё копии сейчас оказались как раз к месту.
Теперь мне предстояло вспомнить былое…
Не буду утомлять читателя, малоинтересными для него техническими подробностями, но намучался я изрядно… Мне не сразу удалось попасть в колорит пейзажа. Только в третий раз, смывая разбавителем свою очередную неудачу, я заметил, что как раз не до конца смытое и вписывается по цвету в картину. Мне оставался кропотливейший труд по выписыванию тончайшей кистью всех мелких деталюшек первого плана, без чего и весь корабль казался бы непрописанным. Короче, бился я с моим кораблём неделю.
Брат, наблюдая мои судороги вокруг этюдника с установленным на нём пейзажем, от комментариев воздерживался. Иногда, проходя мимо, он искоса бросал взгляд на мою работу и молча проходил мимо. И только когда я уже острой бамбуковой зубочисткой процарапывал по свежей краске глаза на физиономии ведьмы, укрепл`нной на носу корабля, брат остановился и сказал:
– Чевой-то ты палочкой ковыряешь? У тебя что, кисти закончились?
– Не палочкой, а твоей зубочисткой. Вон их у тебя в коробочке сколько – много!
– Да мне зубочисток не жалко. Бери, если тебе надо. А получается у тебя не так уж и плохо. Действительно, кистью тут и не подлезешь. Вон как шпангоуты вырисовал. Молодец!
Впервые, наверное, за всю мою жизнь я услышал от брата доброе слово. И тут до меня дошло, что брат сильно переживал за всю эту авантюру с пейзажем. Его репутация, как он считал, могла быть сильно подорвана в глазах всего экипажа в случае моей неудачи. Ведь он вроде как за меня поручился. А на флоте за свои слова отвечают и пустобрёхов там не любят.
– Ладно, – строгим голосом сказал я. – Иди. Не мешай работать. Мне тут ещё кое-что дописать надо. Я думаю, красочка дней за пять высохнет, тогда картину в кают-компанию и вернём…
Через четыре дня состоялась презентация моего кощунственного вмешательства в чужую живопись без согласия на то её автора.
Незадолго до обеда, пока ещё никого из экипажа в кают-компании не было, мы с братом закрепили наш пейзаж на прежнем месте. Нюра, которая как раз в качестве официантки раскладывала столовые приборы, предложила завесить картину большой салфеткой и устроить торжественное её представление экипажу. Брату идея понравилась. Заметно было, что он волнуется не меньше, чем я, но старается своё волнение скрыть странным для меня образом.
– Вот, балбес мой тут картину испачкал, – сказал этот иуда. – Не знаю, что капитан скажет? Заставит этого мазилку краски да кисти, зря потраченные, отрабатывать? Мы, тогда, Нюра, его к вам на камбуз определим – помоганцем. Пускай гальюн моет да всякую другую грязную работу делает. Может, до конца рейса хотя бы половину отработает?!
Тут в кают-компанию стал подтягиваться народ – командный состав судна. С появлением капитана брат объявил, что я свою работу закончил и экипажу предлагается взглянуть на результат. Нюра со всей доступной ей торжественностью бережно сняла салфетку с картины. Наступила немая сцена… Экипаж, разинув рты, рассматривал предоставленное ему зрелище.
– Да! Так даже я не смогу, – раздался в тишине голос замполита.
Капитан подошёл к картине и поковырял её ногтем мизинца.
– Это ж надо?! Ну прямо как живой! Ну молодец, парень! Заслужил ты и краски, и этюдник. Жалко, что у нас больше другого пейзажа нет!
– Так я это… Я и с натуры могу попробовать, – сказал я.
– Как с натуры? Ты и море умеешь нарисовать?!
– Да он что хочешь вам нарисует. Он с детства хорошо рисовал. Не пойму только – в кого он уродился? – скромно поведал брат.
В течение всего обеда капитан бросал взгляды на пейзаж. Очевидно, и он переживал за успех авантюры, инициатором которой сгоряча оказался, и теперь любовался её положительным исходом.
– Мне надо с тобой кое-что с после обеда обсудить, – сказал капитан брату. – Как там двигатель? Дойдем ли до Эмиратов, или придётся в Калькутте на ремонт становиться? Пойдём к тебе – поговорим.
В апартаментах брата состоялась уже привычная для меня мизансцена с открыванием заветного холодильника.
– В общем, так! – сказал капитан, обращаясь ко мне после всей ставшей уже привычной для меня серии тостов. – Если ты до Эмиратов напишешь ещё пейзажик в кают-компанию – я тебя в Шардже, отпущу в увольнение на берег.
– А документы? – спросил брат.
– Да с этим уладим. Помнишь, в Сингапуре на сутки из-за одного придурка задержались, который дебош в портовом кабаке учинил? Так я его своей властью лишил права сходить на берег, его документы изъял – теперь они у меня. Для арабов все европейцы на одно лицо… С его ксивой он и пойдёт. Пускай парень погуляет – ноги разомнёт, да и экзотику посмотрит. Ему, как художнику, это полезно для расширения кругозора будет.
Я был сражён этим неожиданным и великодушным жестом капитана. К тому же меня ещё никто из посторонних людей не назвал художником!..
Меня охватило ликование от столь высокого признания моих скромных успехов, а более всего – от неожиданно свалившейся перспективы побывать своими ногами за границей, да ещё и в загадочных Арабских Эмиратах. О таком везении я и мечтать не мог!
Морской пейзаж с натуры я расположился писать на самой верхней палубе. За капитанским мостиком над палубой был натянут большой тент, в тени которого я и разместился со ставшим уже моим раскладным этюдником. Вместо натянутого на подрамник грунтованного холста пришлось довольствоваться специально подготовленным грунтованным под живопись картоном, который я заблаговременно заказал ещё в Сингапуре, в комплекте с красками.
Время для своего пейзажа я, в противоположность прошлой картине, выбрал вечернее, тем более что, обогнув Индию, наше судно шло в северо-западном направлении, и мне из-под моего тента по левому борту открывался отличный вид на заходящее за морской горизонт солнце. К тому же место, где я расположился, было не проходное. Сюда редко кто из экипажа поднимался, разве что капитан или его помощник со штурманом – пивка выпить в тенёчке да в уединении. Я уже знал (это мне поведал тот художник – знакомый отца), что пейзаж с натуры надо писать, обязательно находясь в тени, иначе, написанный под ярким солнцем, он потом при обычном освещении окажется тёмным и пасмурным. Как-то, не взяв с собой зонт, я пренебрёг этим правилом и был удивлён метаморфозой моего пленэрного этюда. Полуденный пейзаж, написанный с натуры под ярким солнцем, дома оказался серым и почти дождливым.
Никогда раньше я не видел таких закатов, как те, которые открылись предо мной в тропиках. Небо из-за душных испарений и взвеси мельчайшей песчаной пыли, висящих в воздухе, было мутно-непрозрачным. Даже в полдень можно было спокойно смотреть на солнце, которое пробивалось через эту взвесь мохнатым серо-оранжевым пятном на ещё более жёлто-сером фоне. В небе не было той звенящей синевы, которая столь привычна для наших прохладных дальневосточных мест. И всё это при около пятидесяти градусах жары. К вечеру небо становилось одинаково тёмно-серым и почти сливалось с таким же тёмно-серым цветом воды. И над едва различимой линией между небом и водой висел приплюснутый близостью к горизонту огромный малиново-кровавый эллипс вечернего солнца, медленно погружавшийся за кривизну, скрывающую всю невидимую для нашего глаза часть планеты.
Эта экзотическая особенность колорита местного пейзажа значительно облегчала мою задачу. Я выкрасил фактически одной серой краской весь свой картон, слегка подсветлил границу между небом и водой и, недолго повозившись с подбором цвета, вписал туда сильно подспущенный малиновый воздушный шар солнца. Вспоминая магический эффект прежнего пейзажа, где выписанный передний план придавал законченность всей картине, я и на своём этюде едва заметно наметил легкую рябь волн, которую прописал более чётко по мере приближения к зрителю. Для пущего эффекта волнам переднего плана я добавил немного зеленовато-жёлтого оттенка, чтобы каким-нибудь образом связать мой «шедевр» с картиной из кают-компании, а по самым гребням некоторых волн малиновым цветом нанёс отблески света заходящего солнца.
Тем временем на горизонте стали появляться очертания каких-то невысоких гор, по мере приближения к которым стали различимы и зелёные заросли вдоль берегов, и кое-где виднеющиеся среди них, строения.
Брат объяснил мне, что мы уже находимся в Оманском заливе Индийского океана и скоро будем входить в Персидский залив, который по-английски зовётся просто – галф, а там уже и до Шарджи недалеко.
И вот наш корабль вошёл в воды Персидского залива. Слева по борту тянулась бесконечная полоса песчаной пустыни, на которой изредка попадались какие-то в основном одноэтажные, с виду глинобитные строения с редкими зелёными пятнами финиковых пальм. Вдруг среди этой плоской, как стол, равнины прямо из песка возникли компактной кучкой многоэтажные строения, резко, без всякого перехода, окружённые абсолютно голым пространством.
Это, как объяснил мне брат, был Дубай – один из семи объединённых в одно государство эмиратов. Через несколько часов неспешного хода мы причаливали под разгрузку к грузовому пирсу торгового порта Шарджа, также являющегося столицей, но соседнего эмирата. Вторгавшийся узким рукавом в пустыню залив, где располагался наш причал, заполнялся громадным количеством небольших деревянных корабликов, многие из которых были, кроме двигателей, оснащены мачтами с реями под паруса. Они были очень похожи на корабли восточных пиратов из иллюстраций к сказкам о Синдбаде-мореходе. На каждом таком кораблике сбоку от борта находилась висевшая над морской пучиной маленькая деревянная пристроечка типа бочки, в которой мог поместиться только один человек. Я поинтересовался у Женьки как у знатока парусного флота: что это за пристроечка?
Немного подумав, Женька стал рассказывать, что это, скорее всего, место для наблюдателя, руководящего процессом причаливания к пирсу или к другому кораблю. Но как раз в этот момент на ближайшем к нам кораблике в такую будочку, которая приходилась ему едва по пояс, вошёл бородатый мужик в чалме. Он, не стесняясь царившего вокруг оживления интенсивной портовой жизни, спустил свои штаны и, присев на корточки, стал справлять естественную надобность, с интересом при этом наблюдая из своего, трудно сказать, укромного места происходящую вокруг суету. Его какашки с громким шлёпаньем плюхались с высоты прямо в воды Персидского залива. Женька был посрамлён и обескуражен! Он попытался оправдаться тем, что якобы на каких-то португальских старинных парусниках такие пристроечки действительно были и использовались для того, о чём он и говорил. Мне стало жаль Женьку в его конфузе, и я снисходительно не опротестовал его объяснение.
Моя снисходительность имела давние истоки… Когда-то, когда я был ещё совсем маленький и учился во втором классе, я был очень влюблён в одну девочку. Сейчас, с позиций уже почти взрослого человека, я удивляюсь той совершенно не детской силе моих переживаний. Я вообще-то не был сильно стеснительным ребёнком, что подтверждалось большим количеством всевозможных педагогических репрессий в мой адрес, значительно превышающих среднестатистический уровень. Но предмет любовных чувств моих был для меня настолько идеален и недоступен, что я робел даже подойти к этой девочке, а не то что заговорить с ней. Эти пламенные чувства нашли совершенно неожиданный выход в моих первых стихах. В то время брат ещё был курсантом мореходки и приехал домой на каникулы. Он был безусловным кумиром для меня, и я, конечно, поделился с ним своей страшной тайной, с трепетом и сильным волнением прочитав ему своё стихотворение. Сейчас мне помнятся лишь первые строки из этого довольно пространного опуса: «Ты пари, орёл, пари в вышине далёкой, скажи милой о любви моей одинокой…»
– Чего-чего? – ядовито-насмешливо спросил брат. – Это что за «у-па-ря-ри ча-па-ри»?
Его слова ледяным душем обрушились на моё воспламенённое любовью сердце. Насмешливая оценка братом трепетных сокровенных стихов вызывала ощущение великого конфуза. Обида эта, значительно преувеличенная силой страстных чувств, запомнилась мне на всю жизнь. С той поры любая конфузная ситуация, происшедшая с кем-нибудь из друзей, будила в моём сознании сочувствие и сопереживание. Поэтому и на Женькином конфузе я не стал заострять внимание. Хотя соблазн был велик…
Как я позже узнал у старпома, уже бывавшего ранее в этих краях, на этих деревянных судёнышках осуществлялись местные перевозки грузов в пределах Персидского залива, в основном между Ираном и арабскими государствами Аравийского полуострова.
Я решил, что мой звёздный час настал. Свой «закатный» пейзаж с малиновой фасолиной вместо солнца я поспешил не медля представить на суд капитана, дабы напомнить о его опрометчивом обещании – отпустить меня на берег. Удачно получилось, что капитан как раз зашёл в каюту к брату обсудить положение дел с двигателем судна, чтобы в случае необходимости его ремонта вести соответствующие переговоры с администрацией порта.
Я благоразумно дождался завершения процедуры очередного уже ставшего рутинным «обсуждения» и на очередном тосте встрял в разговор.
– Вот, вы просили меня… – пролепетал я и поставил перед глазами «обсуждающих» свою картонку. Капитан с некоторым недоумением стал вглядываться в мою малиновую помидорину.
– А где море-то? – встрял в разговор брат.
– Как где? Да вот же волны…
– Разве море такое серое бывает? Вон у нас на пейзаже оно какое цветное да яркое. Ты что, красок пожалел?
– Погоди, погоди… – сказал капитан. – Я вот вчера на мостик вечером вышел – смотрю, а солнце-то точно такое, как у него нарисовано, приплюснутое. В наших широтах такого солнца и не бывает. Да и цвет у неба был такой же серый… Мне нравится! Он хорошо уловил особенность южных закатов. Только почему на море пусто? Надо бы тоже каким-нибудь корабликом оживить…