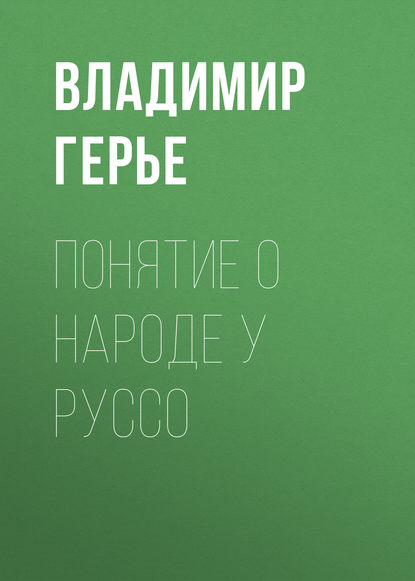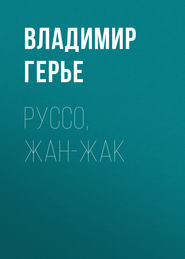По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Понятие о народе у Руссо
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Понятие о народе у Руссо
Владимир Иванович Герье
«С половины прошлого века слово народ получило новое значение и особый интерес для французского общества – конечно, преимущественно для той его части, которая находилась под влиянием современной литературы. Возникшие и установившиеся тогда новые представления о народе служили отражением распространившихся в тогдашнем обществе политических понятий и потребностей, а, с другой стороны, эти представления, в свою очередь, сделались могущественным проводником новых идей и исходною точкой новых общественных стремлений…»
Владимир Герье
Понятие о народе у Руссо
Qui dit le peuple, dit plus d'une chose: c'est une vaste expression; et l'on s'еtonnerait de voir ce qu'elle embrasse et jusqu'o? elle s'еtend.
La Bruy?re
I
С половины прошлого века слово народ получило новое значение и особый интерес для французского общества – конечно, преимущественно для той его части, которая находилась под влиянием современной литературы. Возникшие и установившиеся тогда новые представления о народе служили отражением распространившихся в тогдашнем обществе политических понятий и потребностей, а, с другой стороны, эти представления, в свою очередь, сделались могущественным проводником новых идей и исходною точкой новых общественных стремлений. Поэтому изучить происхождение того общего понятия о народе, которое тогда сложилось в языке и в литературе Франции, – значит познакомиться с условиями, при которых совершалось развитие духовной культуры и политической жизни Франции, а вместе с тем определялось и направление, которое получило это развитие под влиянием общественных стремлений и наиболее популярных писателей. А так как французское образование и литература Франции были далеко распространены за ее пределами, то история понятия о народе, установившегося во французском обществе, представляет непосредственный интерес при изучении духовной жизни других европейских народов и многое в ней может объяснить. Очерк истории в пределах Франции этого важного, можно сказать, преобладающего, понятия нужно начать с Руссо. Различные направления мысли, пробудившиеся во французском обществе XVIII века по отношению к понятию о народе, все как бы сходятся и сосредоточиваются в Руссо, получают особый отпечаток и животрепещущий интерес под влиянием чуткой субъективности и литературного таланта этого писателя, кристаллизуются и отчеканиваются в его произведениях и отсюда быстро расходятся и глубоко проникают в различные слои французского общества. Руссо можно поэтому считать в известном смысле родоначальником различных представлений о народе во французской литературе, и хотя те школы или направления в вопросе о народе, которые нам придется различать, не все в одинаковой степени могут быть произведены от Руссо, но для всех их можно найти основание в его сочинениях, и только у него одного эти отчасти противоположные направления, хотя они и не связаны органически в одной теории, объединены и сведены к одному центру разнообразными потребностями одной личности и различными оттенками одного индивидуального творчества.
Если мы рассмотрим культурные элементы, под влиянием которых сложилось преобладавшее во французском обществе и у Руссо представление о народе, то мы на первом месте встретим рационализм. Рационализм достиг около половины XVIII века своего крайнего развития в Европе и невозбранно господствовал в философии и в богословии, в религиозных понятиях и научном методе, в политических учениях и в житейской мудрости. Следствием этого было одностороннее превознесение разума и дедукции, рассудочности в оценке всяких явлений, не исключая нравственных, наклонность к обобщениям и общим мыслям, пристрастие к отвлечению и отвлеченным представлениям. Даже в Англии, стране, в исторической своей жизни всегда руководившейся преданием, в праве – прецедентами, в науке и в жизни – эмпирией, рационализм был так силен, что установил на время преобладание естественного разума в вопросах веры и в богословской науке, а в области политической мысли создал знаменитую попытку Локка – путем рассудочной дедукции оправдать установленный переворотом 1688 года государственный строй и вместе с тем основать на выводах отвлеченного разума дальнейшее развитие гражданской и религиозной свободы. Рационализм, таким образом, вовсе не был исключительно французским явлением, и невнимание к общеевропейскому происхождению и значению рационализма может повлечь за собой одностороннюю оценку его, какую, например, заключает в себе известное сочинение Тэна о «Старом порядке» во Франции. Но нет сомнения, что рационализм проявлялся во Франции с особенною последовательностью и беспощадною логикой и что он нигде не находил столько благоприятных условий для своего развития и не сросся столькими корнями с обществом. Францию можно считать родиной рационализма. Новая европейская философия начинается с картезианизма, а это учение явилось во Франции и долго сохраняло во французских школах абсолютное господство. Исходною же точкой Декарта есть чистая мысль – cogito, ergo sum. Чтобы привести себя в состояние, при котором возможно правильное философствование, мыслитель должен, по учению Декарта, отвлечь свое внимание от всего окружающего мира, должен забыть все, что он вынес из непроверенного мыслью опыта, должен порвать всякую связь с преданием, подвергнуть сомнению все положения и убеждения, которые он усвоил себе под влиянием воспитания и авторитета других. Освободивши таким образом свой разум от всего, что ему служило помехой, и отправляясь от самосознания в самой простой и чистой его форме: «я мыслю, потому я есмь», – человек должен, идя путем логики и отвлеченного размышления, перестроить свой внутренний мир. Таким путем он придет прежде всего к незыблемому понятию о Боге и поймет тогда действительный конкретный мир в его истинном значении и смысле.
В течение целого века все серьезно образованные французы проходили через школу картезианизма и усваивали себе привычку к отвлеченному рассуждению и наклонность проверять конкретную действительность требованиями отвлеченного, на самом же деле нередко крайне субъективного разума. Но ту же тенденцию проводила во французское общество и самая действительность, насколько она находилась под влиянием общего направления государственной жизни. Политическое развитие Франции представляет почти с самого возникновения государства чрезвычайно резко проявившееся стремление от местной обособленности к общему однообразию и от местной и сословной автономии к подчинению общему порядку.
Чем сильнее были местные и индивидуальные элементы, чем дольше затягивалась борьба, тем отвлеченнее сознавалась идея государства и тем резче формулировались требования, выставляемые от его имени. Уже давно проводники идеи государственного порядка, легисты, боролись с феодальной автономией, с местными и сословными привилегиями во имя общего разума и представляли естественноисторический процесс образования государства и развития государственной (монархической) власти как торжество разумной идеи над неразумной действительностью. Правительственная централизация достигла в XVIII веке уже значительных успехов, и, подводя повсюду, насколько это было возможно, местную жизнь под общий уровень, она приучала французское общество относиться с пренебрежением к старым историческим формам и прилагать к ним однообразные общие нормы. Указавши на влияние философского метода и государственной политики, мы можем не останавливаться на второстепенных причинах, содействовавших развитию рационализма во французском обществе. Сюда можно причислить характер воспитания и преподавания как в средних, так и в высших школах Франции, где до конца прошлого века исключительно господствовал метод формального и риторического развития, и поэтому даже изучение классических языков и литературы содействовало рационалистическому и отвлеченному взгляду на жизнь. Сюда же можно еще отнести влияние салонов, где люди, преимущественно только литературно образованные, привыкали обсуждать в остроумной беседе всевозможные общественные и политические вопросы под впечатлением новой книги и последней театральной пьесы. Здесь, наконец, можно еще упомянуть об известной национальной черте французов, унаследованной ими еще от галлов, о их наклонности и способности к красноречию и к ораторским приемам, с которыми тесно связана привычка к обобщениям и отвлеченному отношению к действительности.
При таком всеобщем расположении к рационалистическим воззрениям французское общество, совершенно отрешенное от всякого практического знакомства с государственною жизнью, сделалось особенно доступным рационализму в политических понятиях. Его занимали самые общие вопросы о правах человека в государстве, о происхождении и сущности государства, законов и правительства, и все эти вопросы разрешались в самом рационалистическом духе. Исходным пунктом для всех политических рассуждений было понятие о человеке. Древние римляне строго различали человека от гражданина и противополагали одно понятие другому. Человек вообще в их глазах не был облечен никакими правами в государстве; известные политические права и полномочия были принадлежностью только гражданина, т. е. такого человека, который по своему происхождению или в силу какого-нибудь юридического или политического акта становился членом какого-нибудь известного определенного государства. Французы XVIII века, поступая совершенно наоборот, отождествляли понятия человека и гражданина, видели в каждом человеке гражданина вообще независимо от местных и исторических условий его жизни. Такое понятие о человеке-гражданине не было заимствовано ни из опыта, представляемого прошедшим, т. е. из истории, ни из наблюдений над настоящим. Французское общество с увлечением усвоило себе идею о человеке вообще, о человеке, отвлеченном от всего, что налагается на него известною эпохой или бытом, от всех свойств и наклонностей, унаследованных от семьи и племени, от всякого индивидуального склада, обусловленного воспитанием, занятием и степенью развития. Этот-то отвлеченный человек сделался предметом психологического анализа и точкой отправления для политических соображений; задача заключалась лишь в том, чтобы определить его права в общежитии и формулировать необходимые для них гарантии.
Вместе с установлением основного политического понятия о человеке было дано и определение государства – оно представлялось союзом людей, основанным на добровольном соглашении для личных целей. В основание государства была положена идея общественного договора. Человек, по теории общественного договора, в естественном состоянии обладает всеми правами личности и полною свободой воли. Вступая в общежитие с другими подобными себе личностями, он отрекается в пользу общую от своих прав и от своей воли. Из этого слияния единичных воль создается общая воля. Этой общею волей обусловливается возникновение народов и государств. Всякая группа или сумма людей, перешедших от естественного состояния к общежитию вследствие добровольного соглашения, представляет собой народ. Таким образом, народы возникают и существуют лишь вследствие сознательного и произвольного заявления лиц, из которых они состоят; с прекращением договора, с исчезновением общей воли, которою держится договор, уничтожается и народ, подобно тому как перестает существовать число, разложенное на первоначальные единицы. Так же искусственно и случайно представляется по этой теории возникновение и существование государства. Как и самый народ, оно существует лишь в силу общей воли; этою волей поэтому обусловливаются его формы, его основные законы и самое его существование. Какую бы систему управления ни усвоило себе государство в силу исторических обстоятельств, источник государственной власти всегда коренится в первоначальной общей воле, и форма ее всегда должна сообразоваться с последней. Такова в самых общих чертах рационалистическая теория о государстве, господствовавшая в XVIII веке и получившая самое резкое и догматическое выражение свое в сочинении Руссо – «Общественный договор». – Прежде чем мы коснемся подробнее влияния, которое должна была иметь эта теория на представление о народе, мы должны указать на политические причины, которыми объясняется необыкновенный и непонятный успех этой теории, а также практическое значение ее для французского общества в XVIII веке. Эти причины заключались в политическом антагонизме между различными составными частями общества, а также между обществом и правительством и в глубокой, слишком долго задержанной потребности существенных преобразований.
Королевская власть, создавшая французское государство и вместе с ним в известном смысле французский народ, остановилась в XVIII веке на своем пути. Она была слишком связана феодальным преданием, уважением к идее легитимизма, влиянием аристократии и особенно авторитетом католической церкви, чтобы довершить построение государства и объединение народа, подготовленные ею в течение предшествовавших веков. Между тем идея национального и государственного единства продолжала созревать под влиянием централизующей администрации, и потребности общества во многом опередили деятельность правительства. Особенно в области сословных отношений чувствовалось резкое противоречие между старыми формами и новыми понятиями. Феодальная аристократия Франции – как светская, так и духовная – давно утратила свое местное господство и свою автономию по отношению к королевской власти, но сохранила в виде привилегий свои гражданские и политические преимущества перед остальным населением. Между тем это остальное население начинало сливаться в однородную массу, все более и более сознававшую, что и материальные средства, и образование, и право на более влиятельную роль в государственной жизни находятся на ее стороне. Но все стремления к гражданскому равенству и к политической свободе встречали непреодолимую преграду в установившемся веками старом порядке и в рутине бессильного правительства, то склонявшегося к преобразованиям, то отступавшего от них. Разбиваясь об эту преграду, общественное стремление принимало все более утопический и отвлеченный характер, и в обществе все более и более укоренялось убеждение в необходимости построить самый принцип власти на новом основании.
Главным рычагом этого общественного движения сделалась рационалистическая идея о народовластии. Представление о том, что государственная власть исходит от народа, было давно известно во Франции. Французы унаследовали его от римлян вместе с римским правом. Оно долго служило во Франции могущественным орудием монархического начала. Римские императоры, присвоив себе трибунскую власть, считали себя представителями пришедшего в упадок народного собрания на римском форуме и выводили отсюда свое право на законодательную власть. Великие юристы императорской эпохи резко формулировали тождество императорской воли с законом ввиду того, что воля императора представляет собой волю народа. – Quod principi placuit legis habet vigorem, utpote populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat. Это положение Дигест воодушевляло и средневековых французских легистов в их борьбе с феодальным порядком во имя королевской власти. Рационалистические публицисты, подобно Гроцию, также умели мирить идею народовластия с самостоятельной и сильной монархическою властью. Однако эта идея представляла возможность совершенно иного толкования в демократическом и республиканском смысле. Эту сторону ее особенно охотно развивали схоластические публицисты, желавшие в интересах церковной власти ослабить и лишить самостоятельного значения светскую монархию. Во Франции школы, управляемые иезуитами, сделались рассадником доктрины о народовластии, устранявшей идею, что естественный представитель народовластия есть король. Уже в начале XVIII века в руанском парламенте судился один из преподавателей-клериков за республиканское истолкование понятия о народовластии.
Вместе с развитием неудовольствия во французском обществе против старого порядка учение о народовластии начинало принимать среди янсенистов и парламентской магистратуры все более и более оппозиционный и даже революционный характер. Интересно наблюдать в мемуарах министра Людовика XV, маркиза д'Аржансона, какой оппозиционный оттенок получило понятие о народовластии у этого государственного человека, когда он сделался бессильным наблюдателем правительственной рутины. В «Общественном договоре» Руссо понятие о народовластии уже представляется основанием самой радикальной политической теории, и в этом именно направлении этот маленький трактат дал сильный толчок движению, приведшему к перевороту 1789 года.
Но мы не имеем в виду останавливаться на роли, которую играло во французской истории понятие о народовластии благодаря влиянию Руссо, а хотели здесь только указать, в какой степени представление этого писателя о народе обусловливалось господствовавшим в его время рационализмом и глухой политической борьбою, подготовлявшею падение старого порядка.
Представление о народе у Руссо взято не из истории и не из наблюдений над жизнью – оно придумано для того, чтобы служить опорой для рационалистического построения общества и перенесения государственной власти от легитимной династии на другой орган.
Основывая государство на общественном договоре, Руссо выводил отсюда самое существование народа. Полемизируя, например, против положения Гроция, что всякий народ волен поставить над собой полновластного государя, Руссо говорит: «Итак, по мнению Гроция, народ уже представляет собой народ прежде, чем отдаст себя царю. Эта отдача, однако, есть гражданский акт и потому предполагает публичное обсуждение. Но поэтому прежде, чем рассмотреть акт, в силу которого народ избирает царя, следовало бы расследовать акт, посредством которого народ становится народом»[1 - Contrat social. L. I. Ch. 5.].
Этот акт и состоит в заключении общественного договора, значение и последствия которого описываются следующим образом: «В момент его заключения этот акт общения создает на место отдельных личностей, которые вступают в договор, нравственное собирательное целое, состоящее из стольких членов, сколько в собрании было голосов, – целое, которое получает, в силу этого акта, свое единство, свою личность (son moi commun), свою жизнь и волю. Это общественное лицо, образующееся вследствие соединения всех других личностей, называется его членами государством – в пассивном смысле; государем, когда оно действует, державой по отношению к другим подобным политическим телам. Что же касается до самих членов (associеs), то они принимают собирательное имя народа, в отдельности же называются гражданами, как участники в верховной власти, и подданными, как подчиненные законам государства»[2 - Ibid. Ch. 6.].
Еще резче выражена эта мысль в «Эмиле». «Рассматривая, – говорит здесь Руссо, – смысл этого собирательного названия народ, посмотрим, не нужен ли для того, чтобы создать народ, договор, по крайней мере молчаливый, состоявшийся раньше, чем договор, заключенный между народом и царем. Если для того, чтобы избрать царя, народ уже представляет собой народ, то что же могло сделать его народом, как не общественный договор?»[3 - Emile. L. V // Hachette. P. 252.]
Подобно тому как народ возникает и существует в силу общественного договора, он, по объяснению Руссо, разлагается, прекращает свое существование в момент нарушения общественного договора. Таким нарушением договора Руссо считает, например, всякое обязательство со стороны народа покоряться представителю государственной власти. «Если, – говорит Руссо, – народ дает обещание повиноваться, он этим актом уничтожает себя (se dissout), утрачивает свойство народа (sa qualitе de peuple); в ту самую минуту как является господин, нет более государя – и тогда политическое тело разрушено»[4 - Contrat social. L. II. Ch. 1.].
До чего доходит эта логика рационализма, отрешенного от всякой действительности и жизненной правды, показывает пресловутое место о свободе англичан. «Английский народ, – говорит Руссо, – считает себя свободным; он очень ошибается – он свободен лишь во время избрания членов парламента, а как скоро они избраны, он становится рабом, он ничто»[5 - Ibid. L. III. Ch. 15.].
Особенно ярко проявляется рационалистическое представление о народе в том месте, где Руссо объясняет различие между мелкими и большими (по числу граждан) народами относительно той доли власти или свободы (эти два понятия постоянно смешиваются у Руссо), какая приходится в них на долю каждого из граждан.
«Предположим, – говорит Руссо, – что государство состоит из десяти тысяч граждан; здесь государь относится к каждому отдельному гражданину, как 10 000 к единице; это значит, что на каждого члена государства приходится только одна десятитысячная доля верховной власти, хотя он ей подчинен всем своим существом (tout entier). Предположим теперь, что народ состоит изо ста тысяч человек. Положение подданных в этом случае не изменится, и каждый из них в равной степени несет на себе всю тяжесть законов, тогда как его голос (suffrage), сведенный на одну стотысячную часть общей воли, имеет в десять раз менее влияния на составление законов». Таким образом, подданный всегда представляет собой известную единицу, отношение же государя к нему увеличивается обратно пропорционально числу граждан. Отсюда следует, что «чем большие размеры принимает государство, тем более уменьшается свобода»[6 - Ibid. Ch. I.].
Облеченная в такие простые, арифметические формулы, в такие бойкие афоризмы, льстившие самолюбию, рационалистическая теория о народе глубоко врезывалась в умы поклонников Руссо и сделалась ходячею монетой для политикующей публики. Она изгоняла все другие более правильные понятия о жизни народов, делая совершенно бесплодными и те, которые могли быть извлечены читателями Руссо из его собственных сочинений. Сам Руссо находился под влиянием двух противоположных течений. Преобладающим направлением его ума в политических вопросах был рационализм. Его склонность к рационализму могла проявляться на полном просторе при недостаточности его образования и при крайне скудной начитанности его. Знавший его близко Юм сказал о нем: «Он очень мало читал в течение своей жизни и теперь совершенно отказался от всякого чтения. Он мало видел на своем веку и лишен всякой охоты видеть и наблюдать. Он, в сущности говоря, размышлял и занимался очень мало и обладает на самом деле очень незначительным запасом сведений». Несомненно то, что рационалистические формулы встречали в уме Руссо слишком слабые преграды со стороны житейского опыта или соображений, заимствованных из истории народов, и ничто не мешало Руссо доводить эти формулы смелой диалектикой до крайних выводов. Другая причина, почему рационализм развивался у Руссо на таком просторе, заключается в его враждебности к господствовавшему во Франции политическому и общественному строю. Этот порядок был вдвойне чужд Руссо как иностранцу, уроженцу республиканской Женевы, и как теоретику, не затруднявшемуся извлекать свои политические убеждения из республики Платона и из политики Миноса и Ликурга.
Локк также стоял на почве общественного договора и признавал естественное состояние человека подкладкой его гражданского быта; но его рационализм был умерен эмпирией и служил ему средством, чтобы оправдать и объяснить конституцию 1688 года; а для Руссо английская свобода была так же ненавистна, как и французское рабство.
Однако Руссо находился в то же время под влиянием совершенно иного направления. Давно уже начался в Западной Европе тот способ изучения политических вопросов, который можно назвать реальным, если иметь в виду его цели, – и научным, если характеризовать его метод. Самым блестящим представителем его во Франции в XVIII веке был Монтескье, знаменитое сочинение которого «Дух законов» появилось за тринадцать лет до напечатания «Общественного договора». Практическим результатом появления «Духа законов» было постепенно распространявшееся убеждение, что законодатель должен принимать в соображение физические, политические и культурные условия, в которых находится страна, и что политические мыслители должны исследовать и формулировать взаимное влияние быта и законов. Слава Монтескье была еще так значительна и свежа, что Руссо, при всем своем рационализме, не мог не поддаться желанию продолжать его дело и усовершенствовать добытые им выводы. Вследствие этого политические сочинения Руссо отмечены глубоким противоречием: то он выступает отчаянным теоретиком, фанатиком своих силлогизмов; то, забывая о рационалистической основе своей системы, берется с большим тактом и чутьем за реальную политику, производит тонкие наблюдения над людьми и обществом и дает самые благоразумные советы.
Объясняя внутреннее противоречие в политических сочинениях Руссо тем, что он находился под влиянием двух могучих течений в современном ему французском обществе, мы должны, однако, заметить, что подобное, и еще более глубокое, противоречие проходит и по всем другим сочинениям Руссо. Впоследствии мы будем иметь повод остановиться подробнее на этой коренной черте всей деятельности Руссо и приведем ее в связь с его общей историческою ролью. Но помимо этого необходимо упомянуть, что противоречия во взглядах и мнениях Руссо иногда обусловливаются просто его склонностью к риторическому пафосу, которую он разделял со многими литераторами того века, и особенно его любовью к парадоксам, находящейся в тесной связи с выдающейся чертой его характера – болезненным самолюбием. Как многие умы, у которых склонность к парадоксам вытекает из подобного источника, Руссо легко отказывался от них, когда эффект был достигнут. Он обыкновенно даже сам старался смягчить выпущенный им в свет парадокс и согласить его с здравым смыслом и практическими потребностями действительности, и он делал это почти с таким же красноречием и талантом, какие употребил на смелое софистическое развитие своих парадоксов. Руссо в таких случаях, не краснея, отступал от собственной логики и, не заботясь о последствиях, сам собирал материалы для изобличения своих софизмов[7 - Это проведено по всем главным сочинениям Руссо Сен-Марком Жирарденом в его книге: «J.-J. Rousseau etc.». См. также статью Каро в сочинении: «La fin du XVIII si?cle».]. В пример противоречия с самим собой вследствие парадоксальной формы, в которую он облекал свою мысль, можно привести его взгляды на прогресс и цивилизацию. В своем «Рассуждении о причинах неравенства между людьми», этом злобном пасквиле на цивилизацию, Руссо выставляет ее уклонением от природы, источником всех материальных бедствий и всего нравственного зла на земле и превозносит быт и счастье дикарей на счет положения цивилизованных народов. Между тем он тут же чрезвычайно отчетливо проводит мысль, что способность к совершенствованию есть самый существенный признак, отличающий природу человека от животного; а в ответном письме к женевскому ученому Бонне, написанном в свое оправдание, Руссо уже прямо отказывается от принципиальных нареканий на цивилизацию и заявляет, что хотел только предостеречь своих современников от слишком быстрого и преждевременного прогресса. «Так как цивилизация (L'еtat de sociеtе), – говорит он, – представляет собой известную цель, к которой люди вольны (sont maitres) устремиться ранее или позднее, то он считал полезным указать им на опасность, какую представляет такое быстрое движение к прогрессу, и на бедственные стороны (mis?res) того состояния, которое они отождествляют с усовершенствованием человеческого рода»[8 - Lettre de J.-J. Rousseau ? Philopolis. Ouvres. T. VII. P. 246. Ed. 1790.].
Не менее поразительны противоречия, в которые впадает Руссо, когда изменяет рационалистическому методу и берет в расчет другие элементы, на которых зиждется человеческое общество. Сюда можно, например, отнести знаменитое место о значении религии в политической и культурной жизни, с которым, впрочем, так мало гармонирует то, что Руссо в других случаях писал о религии: Руссо утверждает, что так как всякий правитель имеет право отказаться от своей власти, то тем более народу должно принадлежать право отказаться от своего подчинения. «Но, – продолжает Руссо, – страшные усобицы, бесконечные смуты, которые повлекло бы за собой это опасное право, доказывают, насколько людские правительства нуждались в более прочном основании, чем один только разум, и насколько было необходимо для общественного мира вмешательство божественной воли, чтобы придать верховной власти святость и неприкосновенность, которые лишили бы подданных пагубного права располагать ею. Если бы религия доставила людям это благо, то этого было бы достаточно, чтобы дорожить ею при всех ее злоупотреблениях, ибо она сберегает человечеству больше крови, чем сколько ее проливает религиозный фанатизм»[9 - Discours sur l'inеgalitе. Ouvres. T. VII. P. 162.].
Другой пример подобного противоречия и отступления от политического рационализма представляют суждения Руссо об абсолютной демократии. Строго держась теории «Общественного договора» и рационалистического метода, Руссо является последовательным поклонником абсолютной демократии. «Ни один закон, – говорит он, например, – который не принят народом всеобщею подачей голосов (en personne), не имеет силы; это не закон». Верховная власть, по определению Руссо, может действовать только тогда, когда весь народ в сборе. Но может ли народ быть в сборе? – Что за химера! возражает сам Руссо, а затем старается доказать, чрезвычайно неудачно ссылаясь на историю Рима и франков, что это не было химерой в прежнее время, что природа человека с тех пор не изменилась и что пределы возможного в вопросах нравственных вовсе не так тесны, как мы воображаем.
Особенно бросаются в глаза противоречия Руссо, которые ему внушены практическою политикой. В теории он признает за каждым народом безусловное право свергать свое правительство и менять свое устройство. «Во всяком случае, – говорит он, – народ волен отменить свои законы, даже самые лучшие; ибо если ему угодно причинить зло самому себе, то кто имеет право ему в этом помешать?» На самом же деле трудно найти у кого-либо такие благоразумные предостережения против насильственных переворотов, как у Руссо. Такое трезвое отношение к делу со стороны Руссо еще понятно в торжественные для него минуты, когда ему выпадало на долю играть перед всей Европой роль ответственного советника народов, чаявших от него своего возрождения. Так, например, в своих «Рассуждениях об управлении Польшей» он дает полякам совет: «Исправляйте, если можно, злоупотребления в вашем государственном устройстве, но не относитесь с пренебрежением к тому, которое вас сделало тем, что вы есть».
Еще с большею силой Руссо выразил эту мысль в следующем афоризме, благоразумие которого тем более замечательно, что он высказан в одном из первых сочинений Руссо, в эпоху риторических рассуждений: «Действительно испорчены не столько те народы, у которых дурные законы, сколько те, которые их презирают»[10 - Lettre ? M. Grimm, I. P. 24.].
Такую же осторожность проявляет Руссо и в тех случаях, когда он не является в официальной роли законодателя народов, например – в своей критике на проект аббата де-Сен-Пьера, предлагавшего окружить французского короля несколькими выборными советами: «Чтобы дать правительству форму, придуманную аббатом де Сен-Пьером, – говорит Руссо, – нужно было бы начать с разрушения всего существующего строя; а кому неизвестно, как опасен в большом государстве момент анархии и кризиса, необходимо предшествующий установлению нового строя. Уже одно введение в дело выборного начала должно повлечь за собой страшное потрясение и – произвести скорее судорожное и безостановочное движение в каждой частице, чем придать новую силу всему телу. Пусть каждый представит себе опасность, которая произойдет от возбуждения громадных масс, составляющих французскую монархию. Кто будет в состоянии остановить данный толчок или предвидеть все его последствия? Если бы даже все преимущества нового плана были бесспорны, какой здравомыслящий человек дерзнул бы уничтожить древние обычаи, устранить старые принципы и изменить ту форму государства, которую постепенно создавал для него продолжительный ряд тринадцати веков?»[11 - Jugement sur la Polysynodie. Ouvres. T. II. P. 461.].
Подобным образом и из самого «Общественного договора» можно привести много мест, отмеченных влиянием Монтескье и доказывающих внимание к реальным условиям исторической жизни. Как ясно, например, формулирует Руссо принцип всякой практической политики в VIII главе второй книги, где он, указав на две, по его мнению, главные цели всякого законодательства – свободу и равенство, заявляет, что «эти общие принципы всякого хорошего политического устройства должны быть видоизменяемы во всякой стране сообразно с отношениями, вытекающими как из местных условий, так и из характера жителей, и на основании этих данных всякий народ должен быть наделен особенною системой учреждений, которая должна быть лучшею если и не сама по себе, то для государства, для которого предназначается». Рассмотрев затем различные частности этого вопроса, Руссо заявляет: «Одним словом, помимо общих всем положений, каждый народ обладает каким-нибудь условием, которое делает его учреждения пригодными только для него одного». А вся VIII глава третьей книги, носящая заглавие «Не всякая форма правительства годится для всякой страны», – не что иное, как подробное развитие положения Монтескье: «Свобода есть плод, который растет не во всяком климате и потому не может быть достоянием всех народов»[12 - Задолго еще до появления «Общественного договора» в своем «Рассуждении о неравенстве» Руссо выразил эту мысль следующим образом: «Свободу можно сравнить с крепкой и сочной пищей или с благородными винами, способными питать и подкреплять сильные, привычные к ним натуры, но которые удручают, губят и опьяняют слабые и нежные натуры, не созданные для этого» (Dеdicace. P. 10).]. «Чем более размышляешь над этим положением, – прибавляет от себя Руссо, – тем более проникаешься его истинностью. Чем более его оспаривают, тем более дают повод упрочить его новыми доказательствами».
С этой целью Руссо входит в подробное рассмотрение влияния климата на производительность страны, на количество и качество пищи, необходимой для жителей, на их одежду, на самую питательность съестных припасов, на количество и сгущенность народонаселения.
Все эти данные служат ему материалом для указания, какой именно способ правления соответствует каждому климату. И хотя тут встречаются выводы слишком общие, чтоб иметь какое-либо значение, или даже очень спорные, например: «монархия пригодна только для народов богатых, аристократия – для государств средних по богатству и размеру, а демократия – для государств небольших и бедных», или «деспотизм есть принадлежность жарких стран, варварство – стран холодных, а хорошие политические учреждения (la bonne politique) соответствуют областям, лежащим между ними, – однако же самая попытка свести формы правления и общественных учреждений на местные условия есть уже отступление от рационалистического отношения к явлениям исторической жизни народов».
Понятно, что при такой внимательности к реальным факторам жизни народов от Руссо не могло укрыться, что самое представление о народе нужно извлекать не из рационалистических определений, а из истории и жизни. В его Рассуждении о неравенстве мы находим попытку объяснить эмпирически происхождение национальностей. Еще важнее то, что Руссо, обыкновенно выводивший и государство и народ из добровольного соглашения, был, однако, не чужд представления об организме в применении к ним. В своем рассуждении о «Политической экономии» он говорит[13 - Ouvres. – Изд. 1790. Т. VII. Р. 265.]: «Политическое тело, взятое индивидуально, может быть рассмотрено как органическое тело, живое и подобное человеку». Руссо вдается даже по этому поводу в чрезмерно подробные сравнения, слишком длинные и искусственные, чтобы их приводить; он отождествляет, например, верховную власть с головой, законы и обычаи – с мозгом, торговлю, промышленность и земледелие – со ртом и желудком, подготовляющим питание, граждан – с телом и членами, которые приводят в движение и дают жизнь всему механизму, и т. д. Согласно с этим мы встречаем в самом «Общественном договоре» между рационалистическими определениями народа и такие выражения, которые как будто внушены убеждением, что самый народ есть продукт истории. Так, например, устанавливается различие между юными народами и народами дряхлеющими; только первые, по мнению Руссо, способны подчиняться преобразованиям мудрого законодателя, последние же со старостью становятся неисправимы. Далее Руссо утверждает, что для народов существует, как и для отдельных людей, известная пора зрелости, которой нужно дождаться, чтобы с успехом дать народу хорошие гражданские учреждения; эта пора зрелости не всегда легко распознаваема, и если законодатель опередит ее, все дело его пропало. «Один народ, – замечает Руссо, – способен к правильной организации (est disciplinable) при зарождении своем, другой еще неспособен к этому и по прошествии десяти веков»[14 - Верную мысль, что реформы должны соответствовать историческому возрасту народа, Руссо подкрепил не особенно удачно примером России. По его словам, русский народ никогда политически не созреет (les russes ne seront jamais vraiment policеs), потому что Петр Великий принялся слишком рано за его развитие. Развивая далее свою мысль, что большая часть преобразований Петра была неудачна и принесла вред, Руссо предсказывает падение России, которая будет поглощена татарами. Вольтер едко глумился над этим предсказанием и сравнил его с пророчествами одного распространенного альманаха Хромого Вестника. Но более любопытно то, что этою выходкой Руссо против Петра Великого счел возможным воспользоваться один современный русский публицист. Объясняя и защищая взгляд славянофилов на Петра Великого, г. Градовский заявляет («Национ. вопрос», с. 244): «Сказать ли, кто в этом отношении подает им руку? – Один из знаменитых общечеловеков XVIII века, Ж.-Ж. Руссо! Вот что говорит он в своем „Contrat social“: „Петр захотел делать немцев, англичан, когда нужно было делать русских: он помешал своим подданным навсегда сделаться тем, чем они могли бы быть, уверив их, что они то, чем они не были“». Эта цитата из Руссо утратила бы свою привлекательность для противников Петра Великого и они отреклись бы от такого союзника, если бы мнение Руссо было приведено целиком.].
Если в этом случае Руссо допускает известные возрасты, т. е. органические эпохи развития в жизни народов, то в другом месте, определяя условия, при которых народ становится способен к правильной законодательной организации, автор «Общественного договора» признает самый принцип, который мог бы расшатать всю его теорию о происхождении гражданского общества и народов из договора индивидуумов, а именно – естественную связь общего происхождения (union d'origine), т. е. принцип национальности.
Но такие проблески более правильного отношения к понятию о народе совершенно исчезают для читателей «Общественного договора» среди господствующего рационалистического метода и настроения. Можно даже сказать, что это смешение рационализма с историческим методом служит у Руссо всецело интересам первого, придавая ему более веса, некоторую фактическую обстановку и мнимую научность. «Общественный договор» представляет у Руссо не только гипотезу, нужную для объяснения того, как первоначально сложились гражданские общества, – он, как грозная туча, постоянно висит над историческою жизнью государств и народов, всегда готовый вторгнуться в действительную жизнь и нарушить существующий и сложившийся веками порядок. Мало того, такое вторжение идеи общественного договора в живой организм политического тела и вследствие этого разложение его на первоначальные единицы составляет, по теории Руссо, общий необходимый закон: это – неизбежный рок, поражающий государства подобно тому, как дряхлость и смерть настигают человека[15 - Contrat social. L. III. Ch. 10.].
По этой теории, всякое превышение власти со стороны правительства разрывает соглашение, на котором основано общество, и все отдельные граждане по праву снова вступают в пользование своей природного свободой. Но всякое правительство, по словам Руссо, беспрестанно стремится к захватам по отношению к верховному государю (под этим разумеется, по терминологии Руссо, сумма граждан), и так как нет другой воли, которая могла бы служить противовесом силе правительства, то «рано или поздно, – как говорит Руссо, – должно случиться, что правительство наконец поработит (opprime) государя и этим нарушит общественный договор. В этом, – прибавляет Руссо, – заключается коренной и неизбежный порок, который с самого зарождения государства непрестанно стремится разрушить его».
Английский биограф Руссо Морлей[16 - Morley. Rousseau. Vol. II. P. 186.] очень удачно пояснил фантастичность такого голословного рассуждения указанием на исторический факт, бывший в Англии в то время, когда «Общественный договор» находился в самой моде. В 1788 году, вследствие помешательства, постигшего Георга III, не мог быть открыт парламент, так как король был не в состоянии подписать указа о созвании его. Тем не менее парламент собрался и первым делом его было уполномочить министров издать указ, скрепленный большою королевской печатью, об открытии парламента, и заявить свое согласие на парламентский билль об установлении регентства. Это было, как замечает Морлей, несомненным захватом королевской власти со стороны одного из органов правительства и, следовательно, применением того случая нарушения общественного договора, который формулирован у Руссо следующим образом: «То же самое имеет место, когда член правительства отдельно присваивает себе ту власть, которая им предоставлена совместно; это представляет не меньшее нарушение законов» и т. д.
При таком взгляде на общественный договор подражание Монтескье и легкие экскурсы Руссо в область исторического метода были бессильны против его рационализма и не были в состоянии ослабить революционную тенденцию, которую он придал представлению о народе. Можно сказать, что уроки, которые Руссо извлекал из истории – а он прибегал для этого почти исключительно к истории Греции и Рима, – только усиливали этот революционный оттенок. Приведенные нами ссылки Руссо на возрасты и историческую жизнь народов служат ему лишь поводом для заявления, что никакой возраст и никакие бытовые условия не гарантируют народ от насильственных потрясений, вследствие которых народ может снова помолодеть, начать сначала свою историческую жизнь.
Заметивши, что коренные преобразования могут быть полезны только в известном возрасте народов, Руссо продолжает[17 - Contrat social. L. II. Ch. 8.]: «Когда обычаи установились и укоренились предрассудки, всякая попытка изменить их есть опасное и тщетное предприятие; народ не может даже потерпеть, чтобы коснулись его ран для исцеления их, подобно тем глупым и трусливым больным, которые дрожат при виде врача».
Однако, как будто надумавшись, Руссо прибавляет: «Впрочем, подобно тому как иные болезни поражают ум больных и отнимают у них память о прошедшем, так в жизни и государств наступают иногда бурные эпохи, когда революции имеют для народов такие последствия, как известные болезненные кризисы для отдельных людей, у которых вместо забвения является отвращение к прошлому, и когда государство, воспламененное междоусобною войной, возрождается, так сказать, из пепла и обретает силу молодости, выходя из объятий смерти. Такова была Спарта во время Ликурга; таков был Рим после Тарквиниев и таковы были у нас Голландия и Швейцария по изгнании тиранов».
Легко представить себе, какой революционный пыл это историческое риторство должно было возбудить во французских читателях Руссо. В роскошном издании его сочинений, вышедшем в 1790 году, издатель к этому месту сделал следующее патриотическое и наивное примечание: «и такова, надеюсь, будет Франция, за исключением междоусобной войны». Эти слова были напечатаны в то время, когда вся Франция еще признавала Людовика XVI законным королем и Учредительное собрание трудилось над составлением монархической конституции. Ни издатель Руссо, ни читатели его не припомнили, конечно, другое место из его сочинений и другую ссылку на римлян времен Тарквиния, которые можно было с большим основанием применить к Франции 1790 года. «Если народы пытаются сбросить свое иго, они тем более удаляются от свободы, что принимают за нее разнузданное своеволие (licence effrеnеe), противоположное свободе, и что их революции делают их почти всегда жертвами льстецов (sеducteurs), которые отягчают их цепи. Даже сам римский народ, этот образец свободного народа, не был в состоянии управлять собой, вышедши из-под гнета Тарквиния»[18 - Disc. s. l'orig. de l'inеg. Ouvres. Vol. VII. P. 11.].
Ввиду такой страстной политической проповеди, какая заключается в приведенных отрывках из Руссо, трезвые и благоразумные советы этого автора, рассеянные по всему «Общественному договору», едва ли переубедили кого-либо из читателей, введенных в заблуждение его фанатическими софизмами. Парадоксы, пущенные им в общество, продолжали свое разрушительное действие в умах, потому что льстили страстям и интересам той части французского общества, которая зачитывалась сочинениями Руссо. Рационалистическое представление о народе сделалось в нем одним из самых сильных революционных ферментов. Понятие о государстве бледнело и постепенно утрачивалось в сознании людей, которые принимали общую волю, т. е. в сущности свою собственную волю, за настоящий источник и регулятор политического строя; правительство лишалось значения и авторитета с точки зрения приверженцев теории, считавшей настоящим государем «сумму граждан», а монархов, парламенты и республиканских магистратов – приказчиками, которые должны быть удалены, как скоро не исполняют волю народа, т. е. то, что всякий искренно или неискренно выдавал за народную волю; закон терял свою силу и обязательность ввиду формулы о неотъемлемости и нераздельности народной власти, – формулы, легко допускавшей такое толкование, что народ во всякую минуту может отменить существующий порядок и отрешить законное правительство и представительство. Рационалистическое представление о народе, прилагаемое в этом смысле к практике, делало анархию естественным и хроническим состоянием гражданского общества и узаконяло революцию, ибо всякий насильственный переворот только восстановлял естественное состояние граждан и возвращал народу его неотъемлемую власть.
Однако влияние Руссо на революционное настроение французского общества не ограничилось теми выводами, которые могли быть извлечены людьми, понимавшими в буквальном смысле теорию народовластия в «Общественном договоре». Эта теория и рационалистическое построение государства были давно известны – они встречались и у католических богословов, и у средневековых легистов Франции, и у великих публицистов, положивших начало науке государственного права, – у Гроция, Локка и др., и приводили к совершенно иным результатам, чем «Общественный договор», служили к оправданию теоретического или монархического строя. Особенно революционный оттенок получил политический рационализм у Руссо, благодаря той новой культурной струе, с которой он встретился в лице автора «Эмиля» и известных рассуждений и исходным пунктом которой было понятие о естественном состоянии (еtat de la nature). Это понятие вводит нас в совершенно другую сферу литературной деятельности Руссо и его влияния на представления французского общества о народе.
II
Восемнадцатый век представляется в общих чертах эпохой просветительного, гуманного рационализма, и Руссо, как видно из предшествовавшей главы, был в политических вопросах одним из передовых и страстных поборников рационалистической точки зрения. Однако прошлый век, при всем своем рационализме, дал в то же время начало другому культурному движению, во многом противоположному рационалистической тенденции, и таким образом положил основание так называемой реакции, столь сильно обнаружившейся в XIX веке против господствовавшего прежде мировоззрения. И в этом отношении Руссо играл не только передовую роль, но, можно сказать, шел во главе того движения, которое отвело европейское общество далеко от рационализма. Влияние Руссо в этом отношении так значительно, что историки, ставящие себе задачей изобразить историю реакционных идей и стремлений в XIX веке, принуждены с него начинать это движение[19 - Так, например, Брандес, который подвел возродившееся литературное движение во Франции после революции под искусственную рубрику – «Литература эмигрантов» (Шатобриан, г-жа де Сталь, де-Местр и пр.), был принужден поставить во главе этих эмигрантов Руссо.]. Один из главных вопросов, в которых Руссо существенно разошелся с настроением современного ему общества и указал ему новый путь, был его взгляд на природу. Во время господства аскетического, церковного идеала природа не могла привлекать к себе человека и только пугала его проявлениями своих таинственных сил, которые представлялись средневековым людям чем-то демоническим и полным мистических чар. Возрождение наук и искусств, правда, тотчас отразилось и на отношениях человека к природе и снова заставило любоваться ею. Восхождение Петрарки на Мон-Ванту занимает одну из первых страниц в истории гуманизма; и в религиозной живописи XV века вдохновленное чувство художника постепенно переходит на изображение окружавшего главные фигуры ландшафта, пока, наконец, последний не получает самостоятельного значения в художестве. Но распространившаяся в области искусства манерность стиля снова закрыла перед обществом настоящую природу, а в области литературы природа в эпоху Людовика XIV и XV была совершенно забыта. Однако в это время внимание образованного человека к природе было возбуждено с совершенно другой стороны – со стороны науки. Великие открытия в астрономии, математике и небесной механике расширили его горизонт и познакомили его с вечными космическими законами. Деизм воспользовался этим приобретением человеческого разума и построил на этом основании свою религиозно-философскую систему, в которой природа служила основанием для религии и этики рационализма. Природа с этой точки зрения представлялась беспредельным, величавым в своей строгой чинности механизмом, от искусной разумности которого мыслящий человек делал заключение о всемогуществе и величии Творца. Затем выступили на первый план экспериментальные естественные науки, и природа превратилась для людей XVIII века в громадную лабораторию; все внимание их было поглощено физическими, химическими и физиологическими процессами и попытками с их помощью объяснить чувство и мысль, и из-за этого все забыли о природе как о живом мире и о человеке как о нравственном существе. Энциклопедисты были энергическими передовыми проводниками этого воззрения, и их направлением совершенно увлеклось все литературно-образованное общество, несмотря на условный протест и бессильный ропот старых деистов, например – Вольтера. В этом настроении общества Руссо произвел неожиданный переворот. Он снова открыл природу для чувства и для поэзии, он сделал ее источником для обновления нравственного мира человека. Мы касаемся здесь исключительно Франции и потому не станем указывать, каким путем чувство природы снова оживилось в Германии и Англии; – во Франции это явление тесно связано с личностью и литературной деятельностью Руссо[20 - «C'est de lui que date chez nous le sentiment de la nature» (St. Beuve. Causeries III. Р. 65). Конечно, это замечание знаменитого критика верно только в условном смысле. Во французской литературе и задолго до Руссо можно встретить понимание природы и предпочтение села и земледельцев городу и горожанам, но такие восхваления природы проходили бесследно. Для примера укажем на Ла Брюера: «On s'еl?ve ? la ville dans une indiffеrence grossi?re des choses rurales et champ?tres… on se contente de se nourrir et de s'habiller. Ne parlez pas ? un grand nombre de bourgeois, ni de guеrets ni de baliveaux, ni de provins, ni de regains, si vous voulez ?tre entendu; ces termes pour eux ne sont pas fran?ais; parlez aux uns d'aunage, de tarif, ou de sou pour livre, et aux autres de voie d'appel, de requ?te civile, d'appointement, d'еvocation. Ils connaissent le monde et encore par ce qu'il a de moins beau et de moins spеcieux; ils ignorent la nature, ses commencements, ses progrеs, ses dons et ses largesses… Il n'y a si VII. praticien qui au fond de son еtude sombre et enfumеe et l'esprit occupе d'une plus noire chicane, ne se prеf?re au laboureur qui jouit du ciel, qui cultive la terre, qui s?me ? propos et qui fait de riches moissons; et, s'il entend quelquefois parler des premiers hommes ou des patriarches, de leur vie champ?tre, et de leur еconomie, il s'еtonne qu'on ait pu vivre en de tels temps, o? il n'y avait encore ni offices, ni commissions, ni prеsidents, ni procureurs» (ete. P. 155).]. Среди городского столичного общества, забывшего о природе в своих салонах, канцеляриях, рабочих кабинетах и лабораториях, явился энтузиаст деревни, человек, восхищавшийся тем, что у него «зелень перед окном», чувствовавший потребность часто возвращаться к этой сельской природе, которую он должен был покинуть. Выходить за город, блуждать пешком по полям и по лесу было для этого человека необходимо, чтобы освежиться и успокоиться, остаться наедине с природой, погрузиться в раздумье под тенью деревьев или на берегу ручья – было для него наслаждением с которым не могли сравниться ни остроумная застольная беседа с друзьями, ни художественный энтузиазм, овладевавший публикой в театре. Под влиянием этого человека, который умел с таким талантом и с такою страстью передавать другим свое настроение, в городском населении пробудилось желание видеть природу, явилась тоска по ней, и прогулка за город сделалась новым источником вдохновения для поэтов и прозаиков и знамением нового культурного направления[21 - См. стихотворение Шиллера «Прогулка»:Здравствуй, веселое поле, ты, шелестящая липа…Здравствуй и ты, синева, захватившая в мирный свой куполИ меня, который, бежав из комнаты душнойИ от пошлых речей, ищет спасенья в тебе…О, разомкнитесь же стены, дайте пленнику выход!Он спасен и бежит в лоно покинутых нив…Пер. Крешева в издании Гербеля].
Владимир Иванович Герье
«С половины прошлого века слово народ получило новое значение и особый интерес для французского общества – конечно, преимущественно для той его части, которая находилась под влиянием современной литературы. Возникшие и установившиеся тогда новые представления о народе служили отражением распространившихся в тогдашнем обществе политических понятий и потребностей, а, с другой стороны, эти представления, в свою очередь, сделались могущественным проводником новых идей и исходною точкой новых общественных стремлений…»
Владимир Герье
Понятие о народе у Руссо
Qui dit le peuple, dit plus d'une chose: c'est une vaste expression; et l'on s'еtonnerait de voir ce qu'elle embrasse et jusqu'o? elle s'еtend.
La Bruy?re
I
С половины прошлого века слово народ получило новое значение и особый интерес для французского общества – конечно, преимущественно для той его части, которая находилась под влиянием современной литературы. Возникшие и установившиеся тогда новые представления о народе служили отражением распространившихся в тогдашнем обществе политических понятий и потребностей, а, с другой стороны, эти представления, в свою очередь, сделались могущественным проводником новых идей и исходною точкой новых общественных стремлений. Поэтому изучить происхождение того общего понятия о народе, которое тогда сложилось в языке и в литературе Франции, – значит познакомиться с условиями, при которых совершалось развитие духовной культуры и политической жизни Франции, а вместе с тем определялось и направление, которое получило это развитие под влиянием общественных стремлений и наиболее популярных писателей. А так как французское образование и литература Франции были далеко распространены за ее пределами, то история понятия о народе, установившегося во французском обществе, представляет непосредственный интерес при изучении духовной жизни других европейских народов и многое в ней может объяснить. Очерк истории в пределах Франции этого важного, можно сказать, преобладающего, понятия нужно начать с Руссо. Различные направления мысли, пробудившиеся во французском обществе XVIII века по отношению к понятию о народе, все как бы сходятся и сосредоточиваются в Руссо, получают особый отпечаток и животрепещущий интерес под влиянием чуткой субъективности и литературного таланта этого писателя, кристаллизуются и отчеканиваются в его произведениях и отсюда быстро расходятся и глубоко проникают в различные слои французского общества. Руссо можно поэтому считать в известном смысле родоначальником различных представлений о народе во французской литературе, и хотя те школы или направления в вопросе о народе, которые нам придется различать, не все в одинаковой степени могут быть произведены от Руссо, но для всех их можно найти основание в его сочинениях, и только у него одного эти отчасти противоположные направления, хотя они и не связаны органически в одной теории, объединены и сведены к одному центру разнообразными потребностями одной личности и различными оттенками одного индивидуального творчества.
Если мы рассмотрим культурные элементы, под влиянием которых сложилось преобладавшее во французском обществе и у Руссо представление о народе, то мы на первом месте встретим рационализм. Рационализм достиг около половины XVIII века своего крайнего развития в Европе и невозбранно господствовал в философии и в богословии, в религиозных понятиях и научном методе, в политических учениях и в житейской мудрости. Следствием этого было одностороннее превознесение разума и дедукции, рассудочности в оценке всяких явлений, не исключая нравственных, наклонность к обобщениям и общим мыслям, пристрастие к отвлечению и отвлеченным представлениям. Даже в Англии, стране, в исторической своей жизни всегда руководившейся преданием, в праве – прецедентами, в науке и в жизни – эмпирией, рационализм был так силен, что установил на время преобладание естественного разума в вопросах веры и в богословской науке, а в области политической мысли создал знаменитую попытку Локка – путем рассудочной дедукции оправдать установленный переворотом 1688 года государственный строй и вместе с тем основать на выводах отвлеченного разума дальнейшее развитие гражданской и религиозной свободы. Рационализм, таким образом, вовсе не был исключительно французским явлением, и невнимание к общеевропейскому происхождению и значению рационализма может повлечь за собой одностороннюю оценку его, какую, например, заключает в себе известное сочинение Тэна о «Старом порядке» во Франции. Но нет сомнения, что рационализм проявлялся во Франции с особенною последовательностью и беспощадною логикой и что он нигде не находил столько благоприятных условий для своего развития и не сросся столькими корнями с обществом. Францию можно считать родиной рационализма. Новая европейская философия начинается с картезианизма, а это учение явилось во Франции и долго сохраняло во французских школах абсолютное господство. Исходною же точкой Декарта есть чистая мысль – cogito, ergo sum. Чтобы привести себя в состояние, при котором возможно правильное философствование, мыслитель должен, по учению Декарта, отвлечь свое внимание от всего окружающего мира, должен забыть все, что он вынес из непроверенного мыслью опыта, должен порвать всякую связь с преданием, подвергнуть сомнению все положения и убеждения, которые он усвоил себе под влиянием воспитания и авторитета других. Освободивши таким образом свой разум от всего, что ему служило помехой, и отправляясь от самосознания в самой простой и чистой его форме: «я мыслю, потому я есмь», – человек должен, идя путем логики и отвлеченного размышления, перестроить свой внутренний мир. Таким путем он придет прежде всего к незыблемому понятию о Боге и поймет тогда действительный конкретный мир в его истинном значении и смысле.
В течение целого века все серьезно образованные французы проходили через школу картезианизма и усваивали себе привычку к отвлеченному рассуждению и наклонность проверять конкретную действительность требованиями отвлеченного, на самом же деле нередко крайне субъективного разума. Но ту же тенденцию проводила во французское общество и самая действительность, насколько она находилась под влиянием общего направления государственной жизни. Политическое развитие Франции представляет почти с самого возникновения государства чрезвычайно резко проявившееся стремление от местной обособленности к общему однообразию и от местной и сословной автономии к подчинению общему порядку.
Чем сильнее были местные и индивидуальные элементы, чем дольше затягивалась борьба, тем отвлеченнее сознавалась идея государства и тем резче формулировались требования, выставляемые от его имени. Уже давно проводники идеи государственного порядка, легисты, боролись с феодальной автономией, с местными и сословными привилегиями во имя общего разума и представляли естественноисторический процесс образования государства и развития государственной (монархической) власти как торжество разумной идеи над неразумной действительностью. Правительственная централизация достигла в XVIII веке уже значительных успехов, и, подводя повсюду, насколько это было возможно, местную жизнь под общий уровень, она приучала французское общество относиться с пренебрежением к старым историческим формам и прилагать к ним однообразные общие нормы. Указавши на влияние философского метода и государственной политики, мы можем не останавливаться на второстепенных причинах, содействовавших развитию рационализма во французском обществе. Сюда можно причислить характер воспитания и преподавания как в средних, так и в высших школах Франции, где до конца прошлого века исключительно господствовал метод формального и риторического развития, и поэтому даже изучение классических языков и литературы содействовало рационалистическому и отвлеченному взгляду на жизнь. Сюда же можно еще отнести влияние салонов, где люди, преимущественно только литературно образованные, привыкали обсуждать в остроумной беседе всевозможные общественные и политические вопросы под впечатлением новой книги и последней театральной пьесы. Здесь, наконец, можно еще упомянуть об известной национальной черте французов, унаследованной ими еще от галлов, о их наклонности и способности к красноречию и к ораторским приемам, с которыми тесно связана привычка к обобщениям и отвлеченному отношению к действительности.
При таком всеобщем расположении к рационалистическим воззрениям французское общество, совершенно отрешенное от всякого практического знакомства с государственною жизнью, сделалось особенно доступным рационализму в политических понятиях. Его занимали самые общие вопросы о правах человека в государстве, о происхождении и сущности государства, законов и правительства, и все эти вопросы разрешались в самом рационалистическом духе. Исходным пунктом для всех политических рассуждений было понятие о человеке. Древние римляне строго различали человека от гражданина и противополагали одно понятие другому. Человек вообще в их глазах не был облечен никакими правами в государстве; известные политические права и полномочия были принадлежностью только гражданина, т. е. такого человека, который по своему происхождению или в силу какого-нибудь юридического или политического акта становился членом какого-нибудь известного определенного государства. Французы XVIII века, поступая совершенно наоборот, отождествляли понятия человека и гражданина, видели в каждом человеке гражданина вообще независимо от местных и исторических условий его жизни. Такое понятие о человеке-гражданине не было заимствовано ни из опыта, представляемого прошедшим, т. е. из истории, ни из наблюдений над настоящим. Французское общество с увлечением усвоило себе идею о человеке вообще, о человеке, отвлеченном от всего, что налагается на него известною эпохой или бытом, от всех свойств и наклонностей, унаследованных от семьи и племени, от всякого индивидуального склада, обусловленного воспитанием, занятием и степенью развития. Этот-то отвлеченный человек сделался предметом психологического анализа и точкой отправления для политических соображений; задача заключалась лишь в том, чтобы определить его права в общежитии и формулировать необходимые для них гарантии.
Вместе с установлением основного политического понятия о человеке было дано и определение государства – оно представлялось союзом людей, основанным на добровольном соглашении для личных целей. В основание государства была положена идея общественного договора. Человек, по теории общественного договора, в естественном состоянии обладает всеми правами личности и полною свободой воли. Вступая в общежитие с другими подобными себе личностями, он отрекается в пользу общую от своих прав и от своей воли. Из этого слияния единичных воль создается общая воля. Этой общею волей обусловливается возникновение народов и государств. Всякая группа или сумма людей, перешедших от естественного состояния к общежитию вследствие добровольного соглашения, представляет собой народ. Таким образом, народы возникают и существуют лишь вследствие сознательного и произвольного заявления лиц, из которых они состоят; с прекращением договора, с исчезновением общей воли, которою держится договор, уничтожается и народ, подобно тому как перестает существовать число, разложенное на первоначальные единицы. Так же искусственно и случайно представляется по этой теории возникновение и существование государства. Как и самый народ, оно существует лишь в силу общей воли; этою волей поэтому обусловливаются его формы, его основные законы и самое его существование. Какую бы систему управления ни усвоило себе государство в силу исторических обстоятельств, источник государственной власти всегда коренится в первоначальной общей воле, и форма ее всегда должна сообразоваться с последней. Такова в самых общих чертах рационалистическая теория о государстве, господствовавшая в XVIII веке и получившая самое резкое и догматическое выражение свое в сочинении Руссо – «Общественный договор». – Прежде чем мы коснемся подробнее влияния, которое должна была иметь эта теория на представление о народе, мы должны указать на политические причины, которыми объясняется необыкновенный и непонятный успех этой теории, а также практическое значение ее для французского общества в XVIII веке. Эти причины заключались в политическом антагонизме между различными составными частями общества, а также между обществом и правительством и в глубокой, слишком долго задержанной потребности существенных преобразований.
Королевская власть, создавшая французское государство и вместе с ним в известном смысле французский народ, остановилась в XVIII веке на своем пути. Она была слишком связана феодальным преданием, уважением к идее легитимизма, влиянием аристократии и особенно авторитетом католической церкви, чтобы довершить построение государства и объединение народа, подготовленные ею в течение предшествовавших веков. Между тем идея национального и государственного единства продолжала созревать под влиянием централизующей администрации, и потребности общества во многом опередили деятельность правительства. Особенно в области сословных отношений чувствовалось резкое противоречие между старыми формами и новыми понятиями. Феодальная аристократия Франции – как светская, так и духовная – давно утратила свое местное господство и свою автономию по отношению к королевской власти, но сохранила в виде привилегий свои гражданские и политические преимущества перед остальным населением. Между тем это остальное население начинало сливаться в однородную массу, все более и более сознававшую, что и материальные средства, и образование, и право на более влиятельную роль в государственной жизни находятся на ее стороне. Но все стремления к гражданскому равенству и к политической свободе встречали непреодолимую преграду в установившемся веками старом порядке и в рутине бессильного правительства, то склонявшегося к преобразованиям, то отступавшего от них. Разбиваясь об эту преграду, общественное стремление принимало все более утопический и отвлеченный характер, и в обществе все более и более укоренялось убеждение в необходимости построить самый принцип власти на новом основании.
Главным рычагом этого общественного движения сделалась рационалистическая идея о народовластии. Представление о том, что государственная власть исходит от народа, было давно известно во Франции. Французы унаследовали его от римлян вместе с римским правом. Оно долго служило во Франции могущественным орудием монархического начала. Римские императоры, присвоив себе трибунскую власть, считали себя представителями пришедшего в упадок народного собрания на римском форуме и выводили отсюда свое право на законодательную власть. Великие юристы императорской эпохи резко формулировали тождество императорской воли с законом ввиду того, что воля императора представляет собой волю народа. – Quod principi placuit legis habet vigorem, utpote populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat. Это положение Дигест воодушевляло и средневековых французских легистов в их борьбе с феодальным порядком во имя королевской власти. Рационалистические публицисты, подобно Гроцию, также умели мирить идею народовластия с самостоятельной и сильной монархическою властью. Однако эта идея представляла возможность совершенно иного толкования в демократическом и республиканском смысле. Эту сторону ее особенно охотно развивали схоластические публицисты, желавшие в интересах церковной власти ослабить и лишить самостоятельного значения светскую монархию. Во Франции школы, управляемые иезуитами, сделались рассадником доктрины о народовластии, устранявшей идею, что естественный представитель народовластия есть король. Уже в начале XVIII века в руанском парламенте судился один из преподавателей-клериков за республиканское истолкование понятия о народовластии.
Вместе с развитием неудовольствия во французском обществе против старого порядка учение о народовластии начинало принимать среди янсенистов и парламентской магистратуры все более и более оппозиционный и даже революционный характер. Интересно наблюдать в мемуарах министра Людовика XV, маркиза д'Аржансона, какой оппозиционный оттенок получило понятие о народовластии у этого государственного человека, когда он сделался бессильным наблюдателем правительственной рутины. В «Общественном договоре» Руссо понятие о народовластии уже представляется основанием самой радикальной политической теории, и в этом именно направлении этот маленький трактат дал сильный толчок движению, приведшему к перевороту 1789 года.
Но мы не имеем в виду останавливаться на роли, которую играло во французской истории понятие о народовластии благодаря влиянию Руссо, а хотели здесь только указать, в какой степени представление этого писателя о народе обусловливалось господствовавшим в его время рационализмом и глухой политической борьбою, подготовлявшею падение старого порядка.
Представление о народе у Руссо взято не из истории и не из наблюдений над жизнью – оно придумано для того, чтобы служить опорой для рационалистического построения общества и перенесения государственной власти от легитимной династии на другой орган.
Основывая государство на общественном договоре, Руссо выводил отсюда самое существование народа. Полемизируя, например, против положения Гроция, что всякий народ волен поставить над собой полновластного государя, Руссо говорит: «Итак, по мнению Гроция, народ уже представляет собой народ прежде, чем отдаст себя царю. Эта отдача, однако, есть гражданский акт и потому предполагает публичное обсуждение. Но поэтому прежде, чем рассмотреть акт, в силу которого народ избирает царя, следовало бы расследовать акт, посредством которого народ становится народом»[1 - Contrat social. L. I. Ch. 5.].
Этот акт и состоит в заключении общественного договора, значение и последствия которого описываются следующим образом: «В момент его заключения этот акт общения создает на место отдельных личностей, которые вступают в договор, нравственное собирательное целое, состоящее из стольких членов, сколько в собрании было голосов, – целое, которое получает, в силу этого акта, свое единство, свою личность (son moi commun), свою жизнь и волю. Это общественное лицо, образующееся вследствие соединения всех других личностей, называется его членами государством – в пассивном смысле; государем, когда оно действует, державой по отношению к другим подобным политическим телам. Что же касается до самих членов (associеs), то они принимают собирательное имя народа, в отдельности же называются гражданами, как участники в верховной власти, и подданными, как подчиненные законам государства»[2 - Ibid. Ch. 6.].
Еще резче выражена эта мысль в «Эмиле». «Рассматривая, – говорит здесь Руссо, – смысл этого собирательного названия народ, посмотрим, не нужен ли для того, чтобы создать народ, договор, по крайней мере молчаливый, состоявшийся раньше, чем договор, заключенный между народом и царем. Если для того, чтобы избрать царя, народ уже представляет собой народ, то что же могло сделать его народом, как не общественный договор?»[3 - Emile. L. V // Hachette. P. 252.]
Подобно тому как народ возникает и существует в силу общественного договора, он, по объяснению Руссо, разлагается, прекращает свое существование в момент нарушения общественного договора. Таким нарушением договора Руссо считает, например, всякое обязательство со стороны народа покоряться представителю государственной власти. «Если, – говорит Руссо, – народ дает обещание повиноваться, он этим актом уничтожает себя (se dissout), утрачивает свойство народа (sa qualitе de peuple); в ту самую минуту как является господин, нет более государя – и тогда политическое тело разрушено»[4 - Contrat social. L. II. Ch. 1.].
До чего доходит эта логика рационализма, отрешенного от всякой действительности и жизненной правды, показывает пресловутое место о свободе англичан. «Английский народ, – говорит Руссо, – считает себя свободным; он очень ошибается – он свободен лишь во время избрания членов парламента, а как скоро они избраны, он становится рабом, он ничто»[5 - Ibid. L. III. Ch. 15.].
Особенно ярко проявляется рационалистическое представление о народе в том месте, где Руссо объясняет различие между мелкими и большими (по числу граждан) народами относительно той доли власти или свободы (эти два понятия постоянно смешиваются у Руссо), какая приходится в них на долю каждого из граждан.
«Предположим, – говорит Руссо, – что государство состоит из десяти тысяч граждан; здесь государь относится к каждому отдельному гражданину, как 10 000 к единице; это значит, что на каждого члена государства приходится только одна десятитысячная доля верховной власти, хотя он ей подчинен всем своим существом (tout entier). Предположим теперь, что народ состоит изо ста тысяч человек. Положение подданных в этом случае не изменится, и каждый из них в равной степени несет на себе всю тяжесть законов, тогда как его голос (suffrage), сведенный на одну стотысячную часть общей воли, имеет в десять раз менее влияния на составление законов». Таким образом, подданный всегда представляет собой известную единицу, отношение же государя к нему увеличивается обратно пропорционально числу граждан. Отсюда следует, что «чем большие размеры принимает государство, тем более уменьшается свобода»[6 - Ibid. Ch. I.].
Облеченная в такие простые, арифметические формулы, в такие бойкие афоризмы, льстившие самолюбию, рационалистическая теория о народе глубоко врезывалась в умы поклонников Руссо и сделалась ходячею монетой для политикующей публики. Она изгоняла все другие более правильные понятия о жизни народов, делая совершенно бесплодными и те, которые могли быть извлечены читателями Руссо из его собственных сочинений. Сам Руссо находился под влиянием двух противоположных течений. Преобладающим направлением его ума в политических вопросах был рационализм. Его склонность к рационализму могла проявляться на полном просторе при недостаточности его образования и при крайне скудной начитанности его. Знавший его близко Юм сказал о нем: «Он очень мало читал в течение своей жизни и теперь совершенно отказался от всякого чтения. Он мало видел на своем веку и лишен всякой охоты видеть и наблюдать. Он, в сущности говоря, размышлял и занимался очень мало и обладает на самом деле очень незначительным запасом сведений». Несомненно то, что рационалистические формулы встречали в уме Руссо слишком слабые преграды со стороны житейского опыта или соображений, заимствованных из истории народов, и ничто не мешало Руссо доводить эти формулы смелой диалектикой до крайних выводов. Другая причина, почему рационализм развивался у Руссо на таком просторе, заключается в его враждебности к господствовавшему во Франции политическому и общественному строю. Этот порядок был вдвойне чужд Руссо как иностранцу, уроженцу республиканской Женевы, и как теоретику, не затруднявшемуся извлекать свои политические убеждения из республики Платона и из политики Миноса и Ликурга.
Локк также стоял на почве общественного договора и признавал естественное состояние человека подкладкой его гражданского быта; но его рационализм был умерен эмпирией и служил ему средством, чтобы оправдать и объяснить конституцию 1688 года; а для Руссо английская свобода была так же ненавистна, как и французское рабство.
Однако Руссо находился в то же время под влиянием совершенно иного направления. Давно уже начался в Западной Европе тот способ изучения политических вопросов, который можно назвать реальным, если иметь в виду его цели, – и научным, если характеризовать его метод. Самым блестящим представителем его во Франции в XVIII веке был Монтескье, знаменитое сочинение которого «Дух законов» появилось за тринадцать лет до напечатания «Общественного договора». Практическим результатом появления «Духа законов» было постепенно распространявшееся убеждение, что законодатель должен принимать в соображение физические, политические и культурные условия, в которых находится страна, и что политические мыслители должны исследовать и формулировать взаимное влияние быта и законов. Слава Монтескье была еще так значительна и свежа, что Руссо, при всем своем рационализме, не мог не поддаться желанию продолжать его дело и усовершенствовать добытые им выводы. Вследствие этого политические сочинения Руссо отмечены глубоким противоречием: то он выступает отчаянным теоретиком, фанатиком своих силлогизмов; то, забывая о рационалистической основе своей системы, берется с большим тактом и чутьем за реальную политику, производит тонкие наблюдения над людьми и обществом и дает самые благоразумные советы.
Объясняя внутреннее противоречие в политических сочинениях Руссо тем, что он находился под влиянием двух могучих течений в современном ему французском обществе, мы должны, однако, заметить, что подобное, и еще более глубокое, противоречие проходит и по всем другим сочинениям Руссо. Впоследствии мы будем иметь повод остановиться подробнее на этой коренной черте всей деятельности Руссо и приведем ее в связь с его общей историческою ролью. Но помимо этого необходимо упомянуть, что противоречия во взглядах и мнениях Руссо иногда обусловливаются просто его склонностью к риторическому пафосу, которую он разделял со многими литераторами того века, и особенно его любовью к парадоксам, находящейся в тесной связи с выдающейся чертой его характера – болезненным самолюбием. Как многие умы, у которых склонность к парадоксам вытекает из подобного источника, Руссо легко отказывался от них, когда эффект был достигнут. Он обыкновенно даже сам старался смягчить выпущенный им в свет парадокс и согласить его с здравым смыслом и практическими потребностями действительности, и он делал это почти с таким же красноречием и талантом, какие употребил на смелое софистическое развитие своих парадоксов. Руссо в таких случаях, не краснея, отступал от собственной логики и, не заботясь о последствиях, сам собирал материалы для изобличения своих софизмов[7 - Это проведено по всем главным сочинениям Руссо Сен-Марком Жирарденом в его книге: «J.-J. Rousseau etc.». См. также статью Каро в сочинении: «La fin du XVIII si?cle».]. В пример противоречия с самим собой вследствие парадоксальной формы, в которую он облекал свою мысль, можно привести его взгляды на прогресс и цивилизацию. В своем «Рассуждении о причинах неравенства между людьми», этом злобном пасквиле на цивилизацию, Руссо выставляет ее уклонением от природы, источником всех материальных бедствий и всего нравственного зла на земле и превозносит быт и счастье дикарей на счет положения цивилизованных народов. Между тем он тут же чрезвычайно отчетливо проводит мысль, что способность к совершенствованию есть самый существенный признак, отличающий природу человека от животного; а в ответном письме к женевскому ученому Бонне, написанном в свое оправдание, Руссо уже прямо отказывается от принципиальных нареканий на цивилизацию и заявляет, что хотел только предостеречь своих современников от слишком быстрого и преждевременного прогресса. «Так как цивилизация (L'еtat de sociеtе), – говорит он, – представляет собой известную цель, к которой люди вольны (sont maitres) устремиться ранее или позднее, то он считал полезным указать им на опасность, какую представляет такое быстрое движение к прогрессу, и на бедственные стороны (mis?res) того состояния, которое они отождествляют с усовершенствованием человеческого рода»[8 - Lettre de J.-J. Rousseau ? Philopolis. Ouvres. T. VII. P. 246. Ed. 1790.].
Не менее поразительны противоречия, в которые впадает Руссо, когда изменяет рационалистическому методу и берет в расчет другие элементы, на которых зиждется человеческое общество. Сюда можно, например, отнести знаменитое место о значении религии в политической и культурной жизни, с которым, впрочем, так мало гармонирует то, что Руссо в других случаях писал о религии: Руссо утверждает, что так как всякий правитель имеет право отказаться от своей власти, то тем более народу должно принадлежать право отказаться от своего подчинения. «Но, – продолжает Руссо, – страшные усобицы, бесконечные смуты, которые повлекло бы за собой это опасное право, доказывают, насколько людские правительства нуждались в более прочном основании, чем один только разум, и насколько было необходимо для общественного мира вмешательство божественной воли, чтобы придать верховной власти святость и неприкосновенность, которые лишили бы подданных пагубного права располагать ею. Если бы религия доставила людям это благо, то этого было бы достаточно, чтобы дорожить ею при всех ее злоупотреблениях, ибо она сберегает человечеству больше крови, чем сколько ее проливает религиозный фанатизм»[9 - Discours sur l'inеgalitе. Ouvres. T. VII. P. 162.].
Другой пример подобного противоречия и отступления от политического рационализма представляют суждения Руссо об абсолютной демократии. Строго держась теории «Общественного договора» и рационалистического метода, Руссо является последовательным поклонником абсолютной демократии. «Ни один закон, – говорит он, например, – который не принят народом всеобщею подачей голосов (en personne), не имеет силы; это не закон». Верховная власть, по определению Руссо, может действовать только тогда, когда весь народ в сборе. Но может ли народ быть в сборе? – Что за химера! возражает сам Руссо, а затем старается доказать, чрезвычайно неудачно ссылаясь на историю Рима и франков, что это не было химерой в прежнее время, что природа человека с тех пор не изменилась и что пределы возможного в вопросах нравственных вовсе не так тесны, как мы воображаем.
Особенно бросаются в глаза противоречия Руссо, которые ему внушены практическою политикой. В теории он признает за каждым народом безусловное право свергать свое правительство и менять свое устройство. «Во всяком случае, – говорит он, – народ волен отменить свои законы, даже самые лучшие; ибо если ему угодно причинить зло самому себе, то кто имеет право ему в этом помешать?» На самом же деле трудно найти у кого-либо такие благоразумные предостережения против насильственных переворотов, как у Руссо. Такое трезвое отношение к делу со стороны Руссо еще понятно в торжественные для него минуты, когда ему выпадало на долю играть перед всей Европой роль ответственного советника народов, чаявших от него своего возрождения. Так, например, в своих «Рассуждениях об управлении Польшей» он дает полякам совет: «Исправляйте, если можно, злоупотребления в вашем государственном устройстве, но не относитесь с пренебрежением к тому, которое вас сделало тем, что вы есть».
Еще с большею силой Руссо выразил эту мысль в следующем афоризме, благоразумие которого тем более замечательно, что он высказан в одном из первых сочинений Руссо, в эпоху риторических рассуждений: «Действительно испорчены не столько те народы, у которых дурные законы, сколько те, которые их презирают»[10 - Lettre ? M. Grimm, I. P. 24.].
Такую же осторожность проявляет Руссо и в тех случаях, когда он не является в официальной роли законодателя народов, например – в своей критике на проект аббата де-Сен-Пьера, предлагавшего окружить французского короля несколькими выборными советами: «Чтобы дать правительству форму, придуманную аббатом де Сен-Пьером, – говорит Руссо, – нужно было бы начать с разрушения всего существующего строя; а кому неизвестно, как опасен в большом государстве момент анархии и кризиса, необходимо предшествующий установлению нового строя. Уже одно введение в дело выборного начала должно повлечь за собой страшное потрясение и – произвести скорее судорожное и безостановочное движение в каждой частице, чем придать новую силу всему телу. Пусть каждый представит себе опасность, которая произойдет от возбуждения громадных масс, составляющих французскую монархию. Кто будет в состоянии остановить данный толчок или предвидеть все его последствия? Если бы даже все преимущества нового плана были бесспорны, какой здравомыслящий человек дерзнул бы уничтожить древние обычаи, устранить старые принципы и изменить ту форму государства, которую постепенно создавал для него продолжительный ряд тринадцати веков?»[11 - Jugement sur la Polysynodie. Ouvres. T. II. P. 461.].
Подобным образом и из самого «Общественного договора» можно привести много мест, отмеченных влиянием Монтескье и доказывающих внимание к реальным условиям исторической жизни. Как ясно, например, формулирует Руссо принцип всякой практической политики в VIII главе второй книги, где он, указав на две, по его мнению, главные цели всякого законодательства – свободу и равенство, заявляет, что «эти общие принципы всякого хорошего политического устройства должны быть видоизменяемы во всякой стране сообразно с отношениями, вытекающими как из местных условий, так и из характера жителей, и на основании этих данных всякий народ должен быть наделен особенною системой учреждений, которая должна быть лучшею если и не сама по себе, то для государства, для которого предназначается». Рассмотрев затем различные частности этого вопроса, Руссо заявляет: «Одним словом, помимо общих всем положений, каждый народ обладает каким-нибудь условием, которое делает его учреждения пригодными только для него одного». А вся VIII глава третьей книги, носящая заглавие «Не всякая форма правительства годится для всякой страны», – не что иное, как подробное развитие положения Монтескье: «Свобода есть плод, который растет не во всяком климате и потому не может быть достоянием всех народов»[12 - Задолго еще до появления «Общественного договора» в своем «Рассуждении о неравенстве» Руссо выразил эту мысль следующим образом: «Свободу можно сравнить с крепкой и сочной пищей или с благородными винами, способными питать и подкреплять сильные, привычные к ним натуры, но которые удручают, губят и опьяняют слабые и нежные натуры, не созданные для этого» (Dеdicace. P. 10).]. «Чем более размышляешь над этим положением, – прибавляет от себя Руссо, – тем более проникаешься его истинностью. Чем более его оспаривают, тем более дают повод упрочить его новыми доказательствами».
С этой целью Руссо входит в подробное рассмотрение влияния климата на производительность страны, на количество и качество пищи, необходимой для жителей, на их одежду, на самую питательность съестных припасов, на количество и сгущенность народонаселения.
Все эти данные служат ему материалом для указания, какой именно способ правления соответствует каждому климату. И хотя тут встречаются выводы слишком общие, чтоб иметь какое-либо значение, или даже очень спорные, например: «монархия пригодна только для народов богатых, аристократия – для государств средних по богатству и размеру, а демократия – для государств небольших и бедных», или «деспотизм есть принадлежность жарких стран, варварство – стран холодных, а хорошие политические учреждения (la bonne politique) соответствуют областям, лежащим между ними, – однако же самая попытка свести формы правления и общественных учреждений на местные условия есть уже отступление от рационалистического отношения к явлениям исторической жизни народов».
Понятно, что при такой внимательности к реальным факторам жизни народов от Руссо не могло укрыться, что самое представление о народе нужно извлекать не из рационалистических определений, а из истории и жизни. В его Рассуждении о неравенстве мы находим попытку объяснить эмпирически происхождение национальностей. Еще важнее то, что Руссо, обыкновенно выводивший и государство и народ из добровольного соглашения, был, однако, не чужд представления об организме в применении к ним. В своем рассуждении о «Политической экономии» он говорит[13 - Ouvres. – Изд. 1790. Т. VII. Р. 265.]: «Политическое тело, взятое индивидуально, может быть рассмотрено как органическое тело, живое и подобное человеку». Руссо вдается даже по этому поводу в чрезмерно подробные сравнения, слишком длинные и искусственные, чтобы их приводить; он отождествляет, например, верховную власть с головой, законы и обычаи – с мозгом, торговлю, промышленность и земледелие – со ртом и желудком, подготовляющим питание, граждан – с телом и членами, которые приводят в движение и дают жизнь всему механизму, и т. д. Согласно с этим мы встречаем в самом «Общественном договоре» между рационалистическими определениями народа и такие выражения, которые как будто внушены убеждением, что самый народ есть продукт истории. Так, например, устанавливается различие между юными народами и народами дряхлеющими; только первые, по мнению Руссо, способны подчиняться преобразованиям мудрого законодателя, последние же со старостью становятся неисправимы. Далее Руссо утверждает, что для народов существует, как и для отдельных людей, известная пора зрелости, которой нужно дождаться, чтобы с успехом дать народу хорошие гражданские учреждения; эта пора зрелости не всегда легко распознаваема, и если законодатель опередит ее, все дело его пропало. «Один народ, – замечает Руссо, – способен к правильной организации (est disciplinable) при зарождении своем, другой еще неспособен к этому и по прошествии десяти веков»[14 - Верную мысль, что реформы должны соответствовать историческому возрасту народа, Руссо подкрепил не особенно удачно примером России. По его словам, русский народ никогда политически не созреет (les russes ne seront jamais vraiment policеs), потому что Петр Великий принялся слишком рано за его развитие. Развивая далее свою мысль, что большая часть преобразований Петра была неудачна и принесла вред, Руссо предсказывает падение России, которая будет поглощена татарами. Вольтер едко глумился над этим предсказанием и сравнил его с пророчествами одного распространенного альманаха Хромого Вестника. Но более любопытно то, что этою выходкой Руссо против Петра Великого счел возможным воспользоваться один современный русский публицист. Объясняя и защищая взгляд славянофилов на Петра Великого, г. Градовский заявляет («Национ. вопрос», с. 244): «Сказать ли, кто в этом отношении подает им руку? – Один из знаменитых общечеловеков XVIII века, Ж.-Ж. Руссо! Вот что говорит он в своем „Contrat social“: „Петр захотел делать немцев, англичан, когда нужно было делать русских: он помешал своим подданным навсегда сделаться тем, чем они могли бы быть, уверив их, что они то, чем они не были“». Эта цитата из Руссо утратила бы свою привлекательность для противников Петра Великого и они отреклись бы от такого союзника, если бы мнение Руссо было приведено целиком.].
Если в этом случае Руссо допускает известные возрасты, т. е. органические эпохи развития в жизни народов, то в другом месте, определяя условия, при которых народ становится способен к правильной законодательной организации, автор «Общественного договора» признает самый принцип, который мог бы расшатать всю его теорию о происхождении гражданского общества и народов из договора индивидуумов, а именно – естественную связь общего происхождения (union d'origine), т. е. принцип национальности.
Но такие проблески более правильного отношения к понятию о народе совершенно исчезают для читателей «Общественного договора» среди господствующего рационалистического метода и настроения. Можно даже сказать, что это смешение рационализма с историческим методом служит у Руссо всецело интересам первого, придавая ему более веса, некоторую фактическую обстановку и мнимую научность. «Общественный договор» представляет у Руссо не только гипотезу, нужную для объяснения того, как первоначально сложились гражданские общества, – он, как грозная туча, постоянно висит над историческою жизнью государств и народов, всегда готовый вторгнуться в действительную жизнь и нарушить существующий и сложившийся веками порядок. Мало того, такое вторжение идеи общественного договора в живой организм политического тела и вследствие этого разложение его на первоначальные единицы составляет, по теории Руссо, общий необходимый закон: это – неизбежный рок, поражающий государства подобно тому, как дряхлость и смерть настигают человека[15 - Contrat social. L. III. Ch. 10.].
По этой теории, всякое превышение власти со стороны правительства разрывает соглашение, на котором основано общество, и все отдельные граждане по праву снова вступают в пользование своей природного свободой. Но всякое правительство, по словам Руссо, беспрестанно стремится к захватам по отношению к верховному государю (под этим разумеется, по терминологии Руссо, сумма граждан), и так как нет другой воли, которая могла бы служить противовесом силе правительства, то «рано или поздно, – как говорит Руссо, – должно случиться, что правительство наконец поработит (opprime) государя и этим нарушит общественный договор. В этом, – прибавляет Руссо, – заключается коренной и неизбежный порок, который с самого зарождения государства непрестанно стремится разрушить его».
Английский биограф Руссо Морлей[16 - Morley. Rousseau. Vol. II. P. 186.] очень удачно пояснил фантастичность такого голословного рассуждения указанием на исторический факт, бывший в Англии в то время, когда «Общественный договор» находился в самой моде. В 1788 году, вследствие помешательства, постигшего Георга III, не мог быть открыт парламент, так как король был не в состоянии подписать указа о созвании его. Тем не менее парламент собрался и первым делом его было уполномочить министров издать указ, скрепленный большою королевской печатью, об открытии парламента, и заявить свое согласие на парламентский билль об установлении регентства. Это было, как замечает Морлей, несомненным захватом королевской власти со стороны одного из органов правительства и, следовательно, применением того случая нарушения общественного договора, который формулирован у Руссо следующим образом: «То же самое имеет место, когда член правительства отдельно присваивает себе ту власть, которая им предоставлена совместно; это представляет не меньшее нарушение законов» и т. д.
При таком взгляде на общественный договор подражание Монтескье и легкие экскурсы Руссо в область исторического метода были бессильны против его рационализма и не были в состоянии ослабить революционную тенденцию, которую он придал представлению о народе. Можно сказать, что уроки, которые Руссо извлекал из истории – а он прибегал для этого почти исключительно к истории Греции и Рима, – только усиливали этот революционный оттенок. Приведенные нами ссылки Руссо на возрасты и историческую жизнь народов служат ему лишь поводом для заявления, что никакой возраст и никакие бытовые условия не гарантируют народ от насильственных потрясений, вследствие которых народ может снова помолодеть, начать сначала свою историческую жизнь.
Заметивши, что коренные преобразования могут быть полезны только в известном возрасте народов, Руссо продолжает[17 - Contrat social. L. II. Ch. 8.]: «Когда обычаи установились и укоренились предрассудки, всякая попытка изменить их есть опасное и тщетное предприятие; народ не может даже потерпеть, чтобы коснулись его ран для исцеления их, подобно тем глупым и трусливым больным, которые дрожат при виде врача».
Однако, как будто надумавшись, Руссо прибавляет: «Впрочем, подобно тому как иные болезни поражают ум больных и отнимают у них память о прошедшем, так в жизни и государств наступают иногда бурные эпохи, когда революции имеют для народов такие последствия, как известные болезненные кризисы для отдельных людей, у которых вместо забвения является отвращение к прошлому, и когда государство, воспламененное междоусобною войной, возрождается, так сказать, из пепла и обретает силу молодости, выходя из объятий смерти. Такова была Спарта во время Ликурга; таков был Рим после Тарквиниев и таковы были у нас Голландия и Швейцария по изгнании тиранов».
Легко представить себе, какой революционный пыл это историческое риторство должно было возбудить во французских читателях Руссо. В роскошном издании его сочинений, вышедшем в 1790 году, издатель к этому месту сделал следующее патриотическое и наивное примечание: «и такова, надеюсь, будет Франция, за исключением междоусобной войны». Эти слова были напечатаны в то время, когда вся Франция еще признавала Людовика XVI законным королем и Учредительное собрание трудилось над составлением монархической конституции. Ни издатель Руссо, ни читатели его не припомнили, конечно, другое место из его сочинений и другую ссылку на римлян времен Тарквиния, которые можно было с большим основанием применить к Франции 1790 года. «Если народы пытаются сбросить свое иго, они тем более удаляются от свободы, что принимают за нее разнузданное своеволие (licence effrеnеe), противоположное свободе, и что их революции делают их почти всегда жертвами льстецов (sеducteurs), которые отягчают их цепи. Даже сам римский народ, этот образец свободного народа, не был в состоянии управлять собой, вышедши из-под гнета Тарквиния»[18 - Disc. s. l'orig. de l'inеg. Ouvres. Vol. VII. P. 11.].
Ввиду такой страстной политической проповеди, какая заключается в приведенных отрывках из Руссо, трезвые и благоразумные советы этого автора, рассеянные по всему «Общественному договору», едва ли переубедили кого-либо из читателей, введенных в заблуждение его фанатическими софизмами. Парадоксы, пущенные им в общество, продолжали свое разрушительное действие в умах, потому что льстили страстям и интересам той части французского общества, которая зачитывалась сочинениями Руссо. Рационалистическое представление о народе сделалось в нем одним из самых сильных революционных ферментов. Понятие о государстве бледнело и постепенно утрачивалось в сознании людей, которые принимали общую волю, т. е. в сущности свою собственную волю, за настоящий источник и регулятор политического строя; правительство лишалось значения и авторитета с точки зрения приверженцев теории, считавшей настоящим государем «сумму граждан», а монархов, парламенты и республиканских магистратов – приказчиками, которые должны быть удалены, как скоро не исполняют волю народа, т. е. то, что всякий искренно или неискренно выдавал за народную волю; закон терял свою силу и обязательность ввиду формулы о неотъемлемости и нераздельности народной власти, – формулы, легко допускавшей такое толкование, что народ во всякую минуту может отменить существующий порядок и отрешить законное правительство и представительство. Рационалистическое представление о народе, прилагаемое в этом смысле к практике, делало анархию естественным и хроническим состоянием гражданского общества и узаконяло революцию, ибо всякий насильственный переворот только восстановлял естественное состояние граждан и возвращал народу его неотъемлемую власть.
Однако влияние Руссо на революционное настроение французского общества не ограничилось теми выводами, которые могли быть извлечены людьми, понимавшими в буквальном смысле теорию народовластия в «Общественном договоре». Эта теория и рационалистическое построение государства были давно известны – они встречались и у католических богословов, и у средневековых легистов Франции, и у великих публицистов, положивших начало науке государственного права, – у Гроция, Локка и др., и приводили к совершенно иным результатам, чем «Общественный договор», служили к оправданию теоретического или монархического строя. Особенно революционный оттенок получил политический рационализм у Руссо, благодаря той новой культурной струе, с которой он встретился в лице автора «Эмиля» и известных рассуждений и исходным пунктом которой было понятие о естественном состоянии (еtat de la nature). Это понятие вводит нас в совершенно другую сферу литературной деятельности Руссо и его влияния на представления французского общества о народе.
II
Восемнадцатый век представляется в общих чертах эпохой просветительного, гуманного рационализма, и Руссо, как видно из предшествовавшей главы, был в политических вопросах одним из передовых и страстных поборников рационалистической точки зрения. Однако прошлый век, при всем своем рационализме, дал в то же время начало другому культурному движению, во многом противоположному рационалистической тенденции, и таким образом положил основание так называемой реакции, столь сильно обнаружившейся в XIX веке против господствовавшего прежде мировоззрения. И в этом отношении Руссо играл не только передовую роль, но, можно сказать, шел во главе того движения, которое отвело европейское общество далеко от рационализма. Влияние Руссо в этом отношении так значительно, что историки, ставящие себе задачей изобразить историю реакционных идей и стремлений в XIX веке, принуждены с него начинать это движение[19 - Так, например, Брандес, который подвел возродившееся литературное движение во Франции после революции под искусственную рубрику – «Литература эмигрантов» (Шатобриан, г-жа де Сталь, де-Местр и пр.), был принужден поставить во главе этих эмигрантов Руссо.]. Один из главных вопросов, в которых Руссо существенно разошелся с настроением современного ему общества и указал ему новый путь, был его взгляд на природу. Во время господства аскетического, церковного идеала природа не могла привлекать к себе человека и только пугала его проявлениями своих таинственных сил, которые представлялись средневековым людям чем-то демоническим и полным мистических чар. Возрождение наук и искусств, правда, тотчас отразилось и на отношениях человека к природе и снова заставило любоваться ею. Восхождение Петрарки на Мон-Ванту занимает одну из первых страниц в истории гуманизма; и в религиозной живописи XV века вдохновленное чувство художника постепенно переходит на изображение окружавшего главные фигуры ландшафта, пока, наконец, последний не получает самостоятельного значения в художестве. Но распространившаяся в области искусства манерность стиля снова закрыла перед обществом настоящую природу, а в области литературы природа в эпоху Людовика XIV и XV была совершенно забыта. Однако в это время внимание образованного человека к природе было возбуждено с совершенно другой стороны – со стороны науки. Великие открытия в астрономии, математике и небесной механике расширили его горизонт и познакомили его с вечными космическими законами. Деизм воспользовался этим приобретением человеческого разума и построил на этом основании свою религиозно-философскую систему, в которой природа служила основанием для религии и этики рационализма. Природа с этой точки зрения представлялась беспредельным, величавым в своей строгой чинности механизмом, от искусной разумности которого мыслящий человек делал заключение о всемогуществе и величии Творца. Затем выступили на первый план экспериментальные естественные науки, и природа превратилась для людей XVIII века в громадную лабораторию; все внимание их было поглощено физическими, химическими и физиологическими процессами и попытками с их помощью объяснить чувство и мысль, и из-за этого все забыли о природе как о живом мире и о человеке как о нравственном существе. Энциклопедисты были энергическими передовыми проводниками этого воззрения, и их направлением совершенно увлеклось все литературно-образованное общество, несмотря на условный протест и бессильный ропот старых деистов, например – Вольтера. В этом настроении общества Руссо произвел неожиданный переворот. Он снова открыл природу для чувства и для поэзии, он сделал ее источником для обновления нравственного мира человека. Мы касаемся здесь исключительно Франции и потому не станем указывать, каким путем чувство природы снова оживилось в Германии и Англии; – во Франции это явление тесно связано с личностью и литературной деятельностью Руссо[20 - «C'est de lui que date chez nous le sentiment de la nature» (St. Beuve. Causeries III. Р. 65). Конечно, это замечание знаменитого критика верно только в условном смысле. Во французской литературе и задолго до Руссо можно встретить понимание природы и предпочтение села и земледельцев городу и горожанам, но такие восхваления природы проходили бесследно. Для примера укажем на Ла Брюера: «On s'еl?ve ? la ville dans une indiffеrence grossi?re des choses rurales et champ?tres… on se contente de se nourrir et de s'habiller. Ne parlez pas ? un grand nombre de bourgeois, ni de guеrets ni de baliveaux, ni de provins, ni de regains, si vous voulez ?tre entendu; ces termes pour eux ne sont pas fran?ais; parlez aux uns d'aunage, de tarif, ou de sou pour livre, et aux autres de voie d'appel, de requ?te civile, d'appointement, d'еvocation. Ils connaissent le monde et encore par ce qu'il a de moins beau et de moins spеcieux; ils ignorent la nature, ses commencements, ses progrеs, ses dons et ses largesses… Il n'y a si VII. praticien qui au fond de son еtude sombre et enfumеe et l'esprit occupе d'une plus noire chicane, ne se prеf?re au laboureur qui jouit du ciel, qui cultive la terre, qui s?me ? propos et qui fait de riches moissons; et, s'il entend quelquefois parler des premiers hommes ou des patriarches, de leur vie champ?tre, et de leur еconomie, il s'еtonne qu'on ait pu vivre en de tels temps, o? il n'y avait encore ni offices, ni commissions, ni prеsidents, ni procureurs» (ete. P. 155).]. Среди городского столичного общества, забывшего о природе в своих салонах, канцеляриях, рабочих кабинетах и лабораториях, явился энтузиаст деревни, человек, восхищавшийся тем, что у него «зелень перед окном», чувствовавший потребность часто возвращаться к этой сельской природе, которую он должен был покинуть. Выходить за город, блуждать пешком по полям и по лесу было для этого человека необходимо, чтобы освежиться и успокоиться, остаться наедине с природой, погрузиться в раздумье под тенью деревьев или на берегу ручья – было для него наслаждением с которым не могли сравниться ни остроумная застольная беседа с друзьями, ни художественный энтузиазм, овладевавший публикой в театре. Под влиянием этого человека, который умел с таким талантом и с такою страстью передавать другим свое настроение, в городском населении пробудилось желание видеть природу, явилась тоска по ней, и прогулка за город сделалась новым источником вдохновения для поэтов и прозаиков и знамением нового культурного направления[21 - См. стихотворение Шиллера «Прогулка»:Здравствуй, веселое поле, ты, шелестящая липа…Здравствуй и ты, синева, захватившая в мирный свой куполИ меня, который, бежав из комнаты душнойИ от пошлых речей, ищет спасенья в тебе…О, разомкнитесь же стены, дайте пленнику выход!Он спасен и бежит в лоно покинутых нив…Пер. Крешева в издании Гербеля].