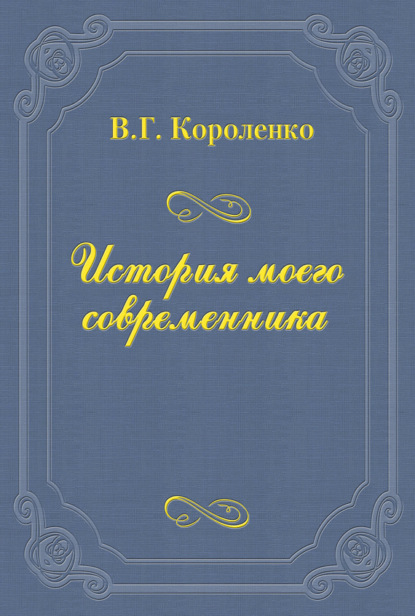По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История моего современника
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, оставил, так оставайся! – согласился Журавский. – Там, кстати, встретишь своего братца.
В карцере, действительно, уже сидело несколько человек, в том числе мой старший брат. Я с гордостью вошел в первый раз в это избранное общество, но брат тотчас же охладил меня, сказав с презрением:
– Дурак! Сам напросился!
Я понял, что дал промах: «настоящий» гимназист гордился бы, если бы удалось обманом ускользнуть от Журавского, а я сам полез ему в лапы…
Когда мы все были выпущены, Крыштанович сказал мне:
– Ты все-таки славный малый, хотя еще глуп. Давай завтра уйдем из церкви.
– Куда?
– Куда я поведу… Пойдешь?
– Хорошо, только надо ведь попроситься у матери…
– Она не узнает… Можешь сказать, что заходил к товарищу учить уроки…
Я покраснел и замялся. Он внимательно посмотрел на меня и повел плечами.
– Ты боишься соврать своей матери? – сказал он с оттенком насмешливого удивления… – А я вру постоянно… Ну, однако, ты мне дал слово… Не сдержать слово товарищу – подлость.
Я сказал матери, что после церкви пойду к товарищу на весь день; мать отпустила. Служба только началась еще в старом соборе, когда Крыштанович дернул меня за рукав, и мы незаметно вышли. Во мне шевелилось легкое угрызение совести, но, сказать правду, было также что-то необыкновенно заманчивое в этой полупреступной прогулке в часы, когда товарищи еще стоят на хорах собора, считая ектений и с нетерпением ожидая Херувимской. Казалось, даже самые улицы имели в эти часы особенный вид.
Крыштанович уверенным шагом повел меня мимо прежней нашей квартиры. Мы прошли мимо старой «фигуры» на шоссе и пошли прямо. В какой-то маленькой лавочке Крыштанович купил две булки и кусок колбасы. Уверенность, с какой он делал эту покупку и расплачивался за нее серебряными деньгами, тоже импонировала мне: у меня только раз в жизни было пятнадцать копеек, и когда я шел с ними по улице, то мне казалось, что все знают об этой огромной сумме и кто-нибудь непременно затевает меня ограбить…
– Откуда у тебя столько денег? – спросил я у моего бойкого товарища, когда мы вышли из лавочки…
– А тебе какое дело? – ответил он. – Ну, украл у отца…
Я покраснел и не знал, что сказать. Мне казалось, что Крыштанович говорит это «нарочно». Когда я высказал это предположение, он ничего не ответил и пошел вперед.
Мы миновали православное кладбище, поднявшись на то самое возвышение дороги, которое когда-то казалось мне чуть не краем света, и откуда мы с братом ожидали «рогатого попа». Потом и улица, и дом Коляновских исчезли за косогором… По сторонам тянулись заборы, пустыри, лачуги, землянки, перед нами лежала белая лента шоссе, с звенящей телеграфной проволокой, а впереди, в дымке пыли и тумана, синела роща, та самая, где я когда-то в первый раз слушал шум соснового бора…
Мне было жутко и приятно. Мир, открывавшийся передо мною, был нов и неожидан, или вернее: я смотрел на него с новой и неожиданной точки зрения. Белые облака лежали на самом горизонте, не закрытом домами и крышами. Навстречу попадались чумацкие возы с скрипучими осями, двигались высокие еврейские балагулы, какие-то странники оглядывались на нас с любопытством и удивлением; проехал обоз крымских татар, ежегодно привозивших в наш город виноград и арбузы. Обоз состоял из огромных фургонов, похожих на вагоны, разделенные горизонтальной переборкой на две половины. В одной лежали молодые татарчата, внизу были наложены арбузы и стояли ящики с виноградом. Фургоны были запряжены верблюдами, которых в городе татары показывали за деньги. Здесь, на просторе, мы смотрели бесплатно, как они шлепали по шоссе мягкими ступнями, покачивая змеиными шеями и презрительно вытягивая длинные отвислые губы…
Так мы прошли версты четыре и дошли до деревянного моста, перекинутого через речку в глубоком овраге. Здесь Крыштанович спустился вниз, и через минуту мы были на берегу тихой и ласковой речушки Каменки. Над нами, высоко, высоко, пролегал мост, по которому гулко ударяли копыта лошадей, прокатывались колеса возов, проехал обратный ямщик с тренькающим колокольчиком, передвигались у барьера силуэты пешеходов, рабочих, стран пиков и богомолок, направлявшихся в Почаев.
Крыштанович подошел к мысу, образованному извилиной речки, и мы растянулись на прохладной зеленой траве; мы долго лежали, отдыхая, глядя на небо и прислушиваясь к гудению протекавшей вверху дорожной жизни.
Детство часто беспечно проходит мимо самых тяжелых драм, но это не значит, что оно не схватывает их чутким полусознанием. Я чувствовал, что в душе моего приятеля есть что-то, что он хранит про себя… Все время дорогой он молчал, и на лбу его лежала легкая складка, как тогда, когда он спрашивал о порке.
Наконец он сел в траве. Лицо его стало спокойнее. Он оглянулся кругом и сказал:
– Правда, – хорошо?..
– Хорошо, – ответил я. – А ты уже здесь бывал?
– Да, бывал.
– Один?
– Один… если захочешь, будем приходить вместе… Тебе не хочется иногда уйти куда-нибудь?.. Так, чтобы все идти, идти… и не возвращаться…
Мне этого не хотелось. Идти – это мне нравилось, но я все-таки знал, что надо вернуться домой, к матери, отцу, братьям и сестрам.
Я не ответил и спросил в свою очередь:
– Слушай… Отчего ты… такой?
– Какой? – переспросил он и прибавил: – Брось… чорт с ними, со всеми… со всеми… Давай лучше купаться.
Через минуту мы плескалась, плавали и барахтались в речушке так весело, как будто сейчас я не предлагал своего вопроса, который Крыштанович оставил без ответа… Когда мы опять подходили к городу, то огоньки предместья светились навстречу в неопределенной синей мгле…
Эта маленькая прогулка ярко запала мне в память, быть может потому, что рядом с нею легло смутное, но глубокое впечатление от личности моего приятеля. На следующий день он не пришел на уроки, и я сидел рядом с его пустым местом, а в моей голове роились воспоминания вчерашнего и смутные вопросы. Между прочим, я думал о том, кем я буду впоследствии. До тех пор я переменил уже в воображении несколько родов деятельности. Вид первой извозчичьей пролетки, запах кожи, краски и лошадиного пота, а также великое преимущество держать в руках вожжи и управлять движением лошадей вызвали у меня желание стать извозчиком. Потом я воображал себя поляком XVII столетия, в шапке с орлиным пером и с кривой саблей на боку. Потом мне очень хотелось быть казаком и мчаться пьяному на коне по степи, как мчался знакомый мне удалой донской урядник. Теперь я был уже умнее. Мне захотелось быть учителем.
И именно таким, как Прелин. Я сижу на кафедре, и ко мне обращены все детские сердца, а я, в свою очередь, знаю каждое из них, вижу каждое их движение. В числе учеников сидит также и Крыштанович. И я знаю, что нужно сказать ему и что нужно сделать, чтобы глаза его не были так печальны, чтобы он не ругал отца сволочью и не смеялся над матерью…
Все это было так завлекательно, так ясно и просто, как только и бывает в мечтах или во сне. И видел я это все так живо, что… совершенно не заметил, как в классе стало необычайно тихо, как ученики с удивлением оборачиваются на меня; как на меня же смотрит с кафедры старый учитель русского языка, лысый, как колено, Белоконский, уже третий раз окликающий меня по фамилии… Он заставил повторить что-то им сказанное, рассердился и выгнал меня из класса, приказав стать у классной двери снаружи.
Я вышел, все еще унося с собой продолжение моего сна наяву. Но едва я устроился в нише дверей и опять отдался течению своих мыслей, как в перспективе коридора показалась рослая фигура директора. Поравнявшись со мной, он остановился, кинул величавый взгляд с своей высоты и пролаял свою автоматическую фразу:
– Выгнан из класса?.. Вып – порю мерзавца!
И затем проследовал дальше. Очень вероятно, что через минуту он уже не узнал бы меня при новой встрече, но в моей памяти этот маленький эпизод остался на всю жизнь. Бессмысленный окрик автомата случайно упал в душу, в первый еще раз раскрывшуюся навстречу вопросам о несовершенствах жизни и разнеженную мечтой о чем-то лучшем… Впоследствии, в минуты невольных уединений, когда я оглядывался на прошлое и пытался уловить, что именно в этом прошлом определило мой жизненный путь, в памяти среди многих важных эпизодов, влияний, размышлений и чувств неизменно вставала также и эта картина: длинный коридор, мальчик, прижавшийся в углублении дверей с первыми движениями разумной мечты о жизни, и огромная мундиро – автоматическая фигура с своею несложною формулой:
– Ввып – порю мерзавца!..
…………………………………………………
В 1866 году один эпизод «большой политики» долетел отголосками и до нас. 4 апреля 1866 года Каракозов[59 - Каракозов Дмитрий Владимирович (1840–1866). – В начале 60-х годов был членом кружка учащейся молодежи («Организация»), во главе которого стоял его двоюродный брат Ишутин. 4 апреля 1866 года Каракозов стрелял в Петербурге в Александра II, но промахнулся; 3 сентября того же года Каракозов был повешен.] в Петербурге стрелял в императора Александра II. В июне того же года, по окончании экзаменов, происходил годичный гимназический акт. Нас сначала собрали в здания гимназии, а потом попарно повели нас в зал Дворянского собрания. Особенная торжественность акта объяснялась, кажется, тем, что гимназия собиралась щегольнуть перед властями и обществом собственным поэтом. Сначала словесник Шавров произнес речь, которая совсем не сохранилась в моей памяти, а затем на эстраду выступил гимназист, небольшого роста, с большой курчавой головой. Каким-то напряженным тоном с выкрикиваниями и сильным акцентом он прочел стихотворение, в котором говорилось о «чудесном спасении». Стихотворение было напыщенно и высокопарно. Оно начиналось вопросом вроде: «Куда текут народа шумны волны?» – а затем сообщало, что
Ужасная весть обтекает Россию
Об умысле злом на царя…
Но чудо свершилось пред всеми в очию,
Венчанную жизнь сохраня…
По окончании чтения поэт поднес губернаторше свиток со своим произведением, а архиерей поцеловал гимназиста – еврея в голову.
Сколько могу припомнить, покушение Каракозова ни во мне, ни в моих сверстниках не будило в то время никаких вопросов. Царь – это было нечто огромное, отдаленное, стихия! Стихией же казались и люди, которые в него стреляют. Нечто отвлеченное, далекое от нашей повседневной жизни. А торжество по этому поводу было казенное торжество, показное, «ненастоящее» – это мы ощущали ясно. Перегибаясь через перила хор, мы с ироническим любопытством смотрели, как смешно поэт Варшавский подходил к руке архиерея и тот прикасается губами к его жесткой курчавой голове. На лицах учеников было или безразличное любопытство, или усмешка…
Стихотворение появилось в гимназическом журнале, который позволено было печатать в губернской типографии. Вышло, кажется, два или три номера. Губернская канцелярия и редакторство учителей убивали свободный полет гимназической поэзии, и она хирела… Былина о «Коршуне – Мине и Прометее – Буйвиде», конечно, не могла бы найти места в этом журнале, как и другие, порой несомненно остроумные сатиры безыменных поэтов – школьников… В этот разрешенный начальством журнал гимназическая муза отправлялась точно с визитом, затянутая, напряженная, несвободная, тогда как у себя дома она была гораздо интереснее.
Поэтическому таланту Варшавского, начавшему свое парение с торжественных од и поднесений высоким лицам, так и не суждено было расцвесть. В гимназическом журнальчике было еще помещено его стихотворение, уже не столь торжественного содержания, озаглавленное «Шапка». Дело шло о форменной гимназической фуражке, которая, по словам поэта, украшая кудрявые юные головы, жаждущие науки, влечет к ним «взгляды красоток». Другой гимназист, Иорданский, написал злую критику, в которой опровергал все поэтические положения товарища – поэта по пунктам. «Поэт утверждает, якобы шапка красоток влечет, – писал он весьма энергическим стилем. – Я же говорю: напротив!»
Придя как-то к брату, критик читал свою статью и, произнося: «я же говорю: напротив», – сверкал глазами и энергически ударял кулаком по столу… От этого на некоторое время у меня составилось представление о «критиках», как о людях, за что-то сердитых на авторов и говорящих им «все напротив».