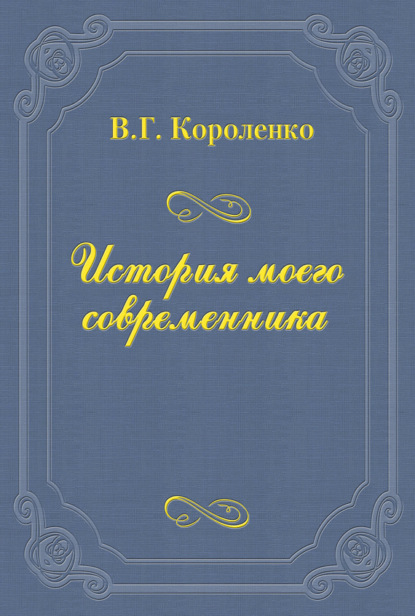По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История моего современника
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Слушай, Кучальский… у тебя, верно, случилось какое-нибудь горе?
Он посмотрел на меня печальными глазами и, не останавливаясь, сказал:
– Да, большое горе…
– Почему ты мне не скажешь?.. И почему ты меня избегаешь?..
– Так… – ответил он, – тебе до этого не может быть дела… Ты – москаль.
Я обиделся и отошел с некоторой раной в душе. После этого каждый вечер я ложился в постель и каждое утро просыпался с щемящим сознанием непонятной для меня отчужденности Кучальского. Мое детское чувство было оскорблено и доставляло мне страдание.
Среди учеников пансиона был один, который питал ко мне такое же чувство, какое я питал к Кучальскому. Фамилию его я забыл и назову его Стоцким. Это был низенький мальчик, очень шустрый, шаловливый и добрый, который часто бывал третьим во время наших прогулок с Кучальский. Теперь он подметил наше отчуждение, и я рассказал ему об ответе Кучальского на мои попытки узнать об его горе. Мальчик после этого несколько раз ходил с Кучальский, обуздывая свою живость и стараясь попасть в сдержанный тон моего бывшего друга. Наконец он выведал, что ему было нужно, и сказал мне во время одной из прогулок:
– Он говорит, что ты – москаль… Что ты во сне плакал о том, что поляки могли победить русских, и что ты… будто бы… теперь радуешься…
И он прибавил, что, по – видимому, кто-то из близких Кучальского убит, ранен или взят в плен…
Это сообщение меня поразило. Итак – я лишился друга только потому, что он поляк, а я – русский, и что мне было жаль Афанасия и русских солдат, когда я думал, что их могут убить. Подозрение, будто я радуюсь тому, что теперь гибнут поляки, что Феликс Рыхлинский ранен, что Стасик сидит в тюрьме и пойдет в Сибирь, – меня глубоко оскорбило… Я ожесточился и чуть не заплакал…
– Я не радуюсь, – сказал я Стоцкому, – но… когда так… Ну, что ж. Я – русский, а он пускай думает, что хочет…
И я не делал новых попыток сближения с Кучальским. Как ни было мне горько видеть, что Кучальский ходит один или в кучке новых приятелей, – я крепился, хотя не мог изгнать из души ноющее и щемящее ощущение утраты чего-то дорогого, близкого, нужного моему детскому сердцу.
Но вдруг в положении этого вопроса произошла новая перемена: пришла третья национальность и в свою очередь предъявила на меня свое право.
Случилось это следующим образом. Один из наших молодых учителей, поляк пан Высоцкий, поступил в университет или уехал за границу. На его место был приглашен новый, по фамилии, если память мне не изменяет, Буткевич. Это был молодой человек небольшого роста, с очень живыми движениями и ласково – веселыми, черными глазами. Вся его фигура отличалась многими непривычными для нас особенностями.
Прежде всего обращали внимание длинные тонкие усы с подусниками, опущенные вниз, по – казацки. Волосы были острижены в кружок. На нем был синий казакин, расстегнутый на груди, где виднелась вышитая малороссийским узором рубашка, схваченная красной ленточкой. Широкие синие шаровары были под казакином опоясаны цветным поясом и вдеты в голенища лакированных мягких сапог. Войдя в классную комнату, он кинул на ближайшую кровать сивую смушковую шапку. На одной из пуговиц его казакина болтался кисет из пузыря, стянутый тонким цветным шнурком…
В самом начале урока он взял в руки список и стал громко читать фамилии. – Поляк? – спрашивал он при этом. – Русский? – Поляк? – Поляк?
Наконец он прочел и мою фамилию.
– Русский, – ответил я.
Он вскинул на меня свои живые глазки и сказал:
– Брешешь.
Я очень сконфузился и не знал, что ответить, а Буткевич после урока подошел ко мне, запустил руки в мои волосы, шутя откинул назад мою голову и сказал опять:
– Ты не москаль, а казацький внук и правнук, вольного казацького роду… Понимаешь?
– По – нимаю… – ответил я, хотя, признаться, в то время понимал мало и был озадачен. Впрочем, слова «вольного казацького роду» имели какое-то смутно – манящее значение.
– Вот погоди, – я принесу тебе книжечку: из нее ты поймешь еще больше, – сказал он в заключение.
На следующий же урок Буткевич принес мне маленькую брошюрку, кажется киевского издания. На обложке было заглавие, если не ошибаюсь: «Про Чуприну та Чортовуса»[50 - «Про Чуприну та Чортовуса». – В авторском экземпляре первой книги «Истории моего современника» (изд. 2-е, «Русское богатство», 1911) Владимиром Галактионовичем сделано к этому месту примечание, что настоящее заглавие этой брошюры Кулиша – «Сiчовi гoстi».], а виньетка изображала мертвого казака, с «оселедцем» на макушке и огромнейшими усами, лежавшего, раскинув могучие руки, на большом поваленном пне…
Рассказ велся от лица дворского казака, который участвовал в преследовании гайдамацкой ватаги, состоявшей под начальством запорожцев – ватажков, Чуприны и Чортовуса. Гайдамаки сделали набег, резали панов, жидов и ксендзов, жгли панские дворы и замки. Польский отряд с помощью реестровых казаков оттеснил их на какой-то остров, окруженный рекой и болотами. Гайдамаки сделали засеки и долго отстреливались, пока ночью реестровый казак не указал полякам какого-то способа перехода через болото… Наутро польское войско кинулось на засеки, гайдамаки отчаянно защищались, но, наконец, погибли все до одного, последними пали от рук своих же братьев ватажки «Чуприна та Чортовус»; один из них был изображен на виньетке. Кончался этот рассказ соответствующей моралью: реестровый казак внушал своим товарищам, как нехорошо было с их стороны сражаться против своих братьев – гайдамаков, которые боролись за свободу с утеснителями – поляками…
Брошюрка эта не произвела на меня того впечатления, какого ожидал Буткевич. Рассказ велся от имени реестрового казака, но я не был реестровым казаком и даже не знал, что это такое. Мораль состояла в том, что гайдамаков не следовало истреблять, а нужно было помотать им. Но и гайдамаков нигде уже не было. Не было также и ярких картин и образов, захвативших мое воображение в польском театре. Был только довольно бледный рассказ о том, что гайдамаки пришли резать панов, а паны при помощи «лейстровых» вырезали гайдамаков… Рассказчик от себя прибавлял, что гайдамаки поступали хорошо, а «лейстровые» плохо, но для меня и те и другие были одинаково чужды.
Одно только последствие как будто вытекало из открытия, сделанного для меня Буткевичем: если я не москаль, то, значит, моему бывшему другу Кучальскому не было причины меня сторониться. Эта мысль пришла мне в голову, но оскорбленная гордость не позволила сделать первые шаги к примирению. Это сделал за меня мой маленький приятель Стоцкий. Однажды мы проходили с ним по двору, когда навстречу нам попался Кучальский, по обыкновению один. Стоцкий со своей обычной почти обезьяньей живостью схватил его за руку и сказал:
– Слушай, Кучальский. Поди с нами. Ведь он не москаль. Буткевич говорит, что он малоросс.
Кучальский на минуту остановился, как будто колеблясь, но затем взгляд его принял опять свое обычное упрямо – печальное выражение…
– Это еще хуже, – сказал он, тихо высвобождая свою руку, – они закапывают наших живьем в землю….
Эта простая фраза разрушила все старания украинца – учителя. Когда после этого Буткевич по – украински заговаривал со мною о «Чуприне та Чортовусе», то я потуплялся, краснел, замыкался и молчал.
Может быть этому способствовало еще одно обстоятельство. В нашей семье тон был очень простой. У отца я никогда не замечал ни одной искусственной ноты. У матери тоже. Вероятно поэтому мы были очень чутки ко всему искусственному. Между тем вся фигура нового учителя казалась мне, пожалуй, довольно привлекательной, даже интересной, но… какой-то не настоящей. Он одевался так, как никто не одевался ни в городе, ни в деревне. Тонкий казакин, кисет на шнурке, люлька в кармане широких шаровар, казацкие подусники – все это казалось не настоящим, не природным и не непосредственным, а «нарочным» и деланным. И говорил он не просто, как все, а точно подчеркивал: вот видите, я говорю по – украински. И мне казалось, что если, по его требованию, я стану отвечать ему тоже на украинском языке (который я знал довольно плохо), то и это выйдет не настояще, а нарочно, и потому «стыдно».
В Буткевиче это вызывало, кажется, некоторую досаду. Он приписал мое упорство «ополячению» и однажды сказал что-то о моей матери «ляшке»… Это было самое худшее, что он мог сказать. Я очень любил свою мать, а теперь это чувство доходило у меня до обожания. На этом маленьком эпизоде мои воспоминания о Буткевиче совсем прекращаются.
Счастливая особенность детства – непосредственность впечатлений и поток яркой жизни, уносящий все вперед и вперед, – не позволили и мне остановиться долго на этих национальных рефлексиях… Дни бежали своей чередой, украинский прозелитизм не удался; я перестрадал маленькую драму разорванной детской дружбы, и вопрос о моей «национальности» остался пока в том же неопределенном положении…
Но и неоформленный и нерешенный, он все-таки лежал где-то в глубине сознания, а по ночам, когда пестрые впечатления дня смолкали, он облекался в образы и управлял моими снами.
Из этик снов один запомнился мне особенно ярко.
Было раннее утро. Сквозь дремоту я слышал, как мать говорила из соседней комнаты, чтобы открыли ставни. Горничная вошла в спальню, отодвинула задвижку и вышла на двор, чтобы исполнить приказание. И когда она вышла, скрипнув дверью, меня опять захватил еще не рассеявшийся утренний сон. И в нем я увидел себя Наполеоном.
У меня было его лицо, я был в его сером сюртуке, в треугольной шляпе, со шпагой. Я приехал в Россию, чтобы сделать здесь какое-то важное дело и кого-то непременно защитить… Какое это дело, и кто ждал моей защиты – это было неясно. В смутном облаке неопределенно болящих ощущений носились и фигуры Рыхлинских, и солдат Афанасий, и моя плачущая мать, и мать Стройновского… Где-то слышались отдельные выстрелы и крики и стоны… Я очень долго скитаюсь среди смутной тревоги и опасностей, ища и не находя того, кто мне был нужен. Наконец кто-то берет меня в плен, и меня сажают в тот самый домик на Вельской улице, где, по рассказам, сидела в заключении знаменитая девица Пустовойтова[51 - Пустовойтова Анна (1838–1881) – дочь русского генерал-майора Феофила Пустовойтова и польки. Участвовала в польском восстании. В 1863 году была адъютантом Лянгевича, одного из руководителей восстания.] – Иоанна д’Арк «повстанья». В нем еще темно, но в щели ставней проникают яркие лучи дня, а у дверей брякает оружие. И вдруг в комнату врываются солдаты. Они выстраиваются в ряд. Я становлюсь против них и расстегиваю свой мундир. Внезапный грохот залпа, в груди ощущение удара и теплоты, и ослепительный свет разливается от места этого удара…
Я проснулся. Ставни как раз открывались, комнату заливал свет солнца, а звук залпа объяснялся падением железного засова ставни. И я не мог поверить, что весь мой долгий сон с поисками, неудачами, приключениями, улегся в те несколько секунд, которые были нужны горничной, чтобы открыть снаружи ставню…
Сердце у меня тревожно билось, в груди еще стояло ощущение теплоты и удара. Оно, конечно, скоро прошло, но еще и теперь я ясно помню ту смутную тревогу, с какой во сне я искал и не находил то, что мне было нужно, между тем как рядом, в спутанном клубке сновидений, кто-то плакал, стонал и бился… Теперь мне кажется, что этот клубок был завязан тремя «национализмами», из которых каждый заявлял право на владение моей беззащитной душой, с обязанностью кого-нибудь ненавидеть и преследовать…
XIV
Житомирская гимназия
Это было время перелома в воспитательной системе. В обществе и литературе шли рассуждения о том, «пороть ли розгами ребенка, учить ли грамоте народ». В Киевском округе попечителем был знаменитый Пирогов[52 - Пирогов Николай Иванович (1810–1881) – известный ученый, врач и педагог.]. Незадолго перед тем (в 1858 году) он издал ряд блестящих статей о воспитании, в которых решительно высказывался против розог[53 - …решительно высказывался против розог. – Здесь имеются в виду статьи Н. И. Пирогова «Вопросы жизни», первая из которых была помещена в 1856 году (а не в 1858, как указывает Короленко) в «Морском сборнике» № 9.]. Добролюбов[54 - Добролюбов Николай Александрович (1836–1861) – великий русский критик, публицист, революционный демократ. В журнале «Современник» (1857, кн. 5-я) Добролюбов за подписью Н. Л. поместил статью «Несколько слов о воспитании». В этой статье Добролюбов приветствует и развивает мысли, высказанные Пироговым в «Вопросах жизни».] горячо приветствовал эти статьи, тем более что они вышли из-под пера практического деятеля в области воспитания. Добролюбов сделал из них заключение, что, значит, в Киевском округе розга отошла уже в область предания. Оказалось, однако, что надежды эти были преждевременны. В следующем 1859 году Пироговым было созвано «совещание», в котором участвовали, кроме попечителя и его помощника, некоторые профессора, директоры, инспекторы гимназий и выдающиеся учителя. Совещание высказалось за «постепенность реформы» и, сохраняя розгу, решило только регламентировать ее применение. Пирогов не только не остался при особом мнении, но еще прибавил свою мотивировку к знаменитым в свое время «правилам», в которых все виды гимназических преступлений были тщательно взвешены, разнесены по рубрикам и таксированы такими-то степенями наказаний[55 - …таксированы такими-то степенями наказаний. – «Правила о проступках и наказаниях учеников гимназий Киевского учебного округа» напечатаны в «Журнале для воспитания», № 11, 1859 г.]. Таблица с этими рубриками должна была висеть на стене, и ученику, совершившему проступок, предстояло самому найти его в соответствующей графе. Предполагалось, что это будет «способствовать развитию чувства законности». В числе провинностей, неизбежно навлекавших телесное наказание, значился, между прочим, «религиозный фанатизм».
Это был компромисс «теории с практикой» и притом очень неудачный. Правила не продержались и нескольких лет. «Дух времени» быстро изгонял розгу, но там, где педагогическая рутина еще держалась, принципиальное признание телесных наказаний было ей очень на руку. Добролюбов ответил на появление «правил» резкой статьей, полной горечи и сарказма[56 - …ответил… статьей, полной горечи и сарказма – статья Н. А. Добролюбова «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами», напечатанная за подписью Н-бов в журнале «Современник» (1860, кн. 1-я).] по адресу Пирогова. Вся журналистика разделилась на два лагеря: за и против Добролюбова, причем «умеренный либерализм» того времени был за попечителя и за постепенность против журналиста с его радикальными требованиями. В этом споре на долю житомирской гимназии выпала своеобразная известность. Оказалось, что по количеству случаев порки она далеко оставила за собой все остальные: в 1858 году из шестисот учеников было высечено двести девяносто. Это было в семь раз чаще, чем, например, в киевской второй гимназии, и в тридцать пять раз больше, чем в киевской первой. Простодушные старозаветные педагоги, с директором Киченком во главе, проставили в своем ответе на запрос Пирогова эту красноречивую цифру, очевидно, не предвидя эффекта, который ей суждено было вызвать.
Я был тогда слишком мал и не помню, в какой мере отголоски этого журнального спора проникали в гимназическую среду. У нее была своя литература, заучиваемая на память, ходившая в рукописях и по альбомам. Ученическая муза неизменно настраивалась при этом на сатирический лад. Я помню длинную поэму в стихах, написанную, кажется, очень недурно, в которой говорилось, между прочим, что в Житомире не могут ужиться «учителя – люди» среди «учителей – зверей». По какой-то роковой неизбежности «людей» похищает нечистая сила:
Взяли черти Трофимова,
Возьмут Добрашова… —
говорил, между прочим, неизвестный автор, не щадивший красок для изображения педагогов, остающихся в педагогическом зверинце.
Уже по тону этих произведений, проникнутых горечью и злобой, можно было бы судить, какие благодарные чувства возбуждала тогдашняя школа и с каким настроением выпускала она в жизнь своих питомцев.
Ярче запомнилось мне другое шуточное «подпольное» произведение, где выступала злоба дня современной педагогической литературы. Это было «сказание о Мине». «Бе некий человек, – говорилось в этом сказании, – именем дерзновенный Прометей, сиречь ученик Буйвид. И той похищайте огнь с небесе, сиречь книги из класса. И бог Зевес, сиречь директор Киченко, приковаше его к кавказской скале, сиречь скамье в карцере. И абие свирепый коршун, сиречь сторож Мина, клеваше печень его, сиречь з – цу, железным клювом, сиречь розгою. И услыша вопли его Геракл, сиречь Буйвид – отец…»
Он посмотрел на меня печальными глазами и, не останавливаясь, сказал:
– Да, большое горе…
– Почему ты мне не скажешь?.. И почему ты меня избегаешь?..
– Так… – ответил он, – тебе до этого не может быть дела… Ты – москаль.
Я обиделся и отошел с некоторой раной в душе. После этого каждый вечер я ложился в постель и каждое утро просыпался с щемящим сознанием непонятной для меня отчужденности Кучальского. Мое детское чувство было оскорблено и доставляло мне страдание.
Среди учеников пансиона был один, который питал ко мне такое же чувство, какое я питал к Кучальскому. Фамилию его я забыл и назову его Стоцким. Это был низенький мальчик, очень шустрый, шаловливый и добрый, который часто бывал третьим во время наших прогулок с Кучальский. Теперь он подметил наше отчуждение, и я рассказал ему об ответе Кучальского на мои попытки узнать об его горе. Мальчик после этого несколько раз ходил с Кучальский, обуздывая свою живость и стараясь попасть в сдержанный тон моего бывшего друга. Наконец он выведал, что ему было нужно, и сказал мне во время одной из прогулок:
– Он говорит, что ты – москаль… Что ты во сне плакал о том, что поляки могли победить русских, и что ты… будто бы… теперь радуешься…
И он прибавил, что, по – видимому, кто-то из близких Кучальского убит, ранен или взят в плен…
Это сообщение меня поразило. Итак – я лишился друга только потому, что он поляк, а я – русский, и что мне было жаль Афанасия и русских солдат, когда я думал, что их могут убить. Подозрение, будто я радуюсь тому, что теперь гибнут поляки, что Феликс Рыхлинский ранен, что Стасик сидит в тюрьме и пойдет в Сибирь, – меня глубоко оскорбило… Я ожесточился и чуть не заплакал…
– Я не радуюсь, – сказал я Стоцкому, – но… когда так… Ну, что ж. Я – русский, а он пускай думает, что хочет…
И я не делал новых попыток сближения с Кучальским. Как ни было мне горько видеть, что Кучальский ходит один или в кучке новых приятелей, – я крепился, хотя не мог изгнать из души ноющее и щемящее ощущение утраты чего-то дорогого, близкого, нужного моему детскому сердцу.
Но вдруг в положении этого вопроса произошла новая перемена: пришла третья национальность и в свою очередь предъявила на меня свое право.
Случилось это следующим образом. Один из наших молодых учителей, поляк пан Высоцкий, поступил в университет или уехал за границу. На его место был приглашен новый, по фамилии, если память мне не изменяет, Буткевич. Это был молодой человек небольшого роста, с очень живыми движениями и ласково – веселыми, черными глазами. Вся его фигура отличалась многими непривычными для нас особенностями.
Прежде всего обращали внимание длинные тонкие усы с подусниками, опущенные вниз, по – казацки. Волосы были острижены в кружок. На нем был синий казакин, расстегнутый на груди, где виднелась вышитая малороссийским узором рубашка, схваченная красной ленточкой. Широкие синие шаровары были под казакином опоясаны цветным поясом и вдеты в голенища лакированных мягких сапог. Войдя в классную комнату, он кинул на ближайшую кровать сивую смушковую шапку. На одной из пуговиц его казакина болтался кисет из пузыря, стянутый тонким цветным шнурком…
В самом начале урока он взял в руки список и стал громко читать фамилии. – Поляк? – спрашивал он при этом. – Русский? – Поляк? – Поляк?
Наконец он прочел и мою фамилию.
– Русский, – ответил я.
Он вскинул на меня свои живые глазки и сказал:
– Брешешь.
Я очень сконфузился и не знал, что ответить, а Буткевич после урока подошел ко мне, запустил руки в мои волосы, шутя откинул назад мою голову и сказал опять:
– Ты не москаль, а казацький внук и правнук, вольного казацького роду… Понимаешь?
– По – нимаю… – ответил я, хотя, признаться, в то время понимал мало и был озадачен. Впрочем, слова «вольного казацького роду» имели какое-то смутно – манящее значение.
– Вот погоди, – я принесу тебе книжечку: из нее ты поймешь еще больше, – сказал он в заключение.
На следующий же урок Буткевич принес мне маленькую брошюрку, кажется киевского издания. На обложке было заглавие, если не ошибаюсь: «Про Чуприну та Чортовуса»[50 - «Про Чуприну та Чортовуса». – В авторском экземпляре первой книги «Истории моего современника» (изд. 2-е, «Русское богатство», 1911) Владимиром Галактионовичем сделано к этому месту примечание, что настоящее заглавие этой брошюры Кулиша – «Сiчовi гoстi».], а виньетка изображала мертвого казака, с «оселедцем» на макушке и огромнейшими усами, лежавшего, раскинув могучие руки, на большом поваленном пне…
Рассказ велся от лица дворского казака, который участвовал в преследовании гайдамацкой ватаги, состоявшей под начальством запорожцев – ватажков, Чуприны и Чортовуса. Гайдамаки сделали набег, резали панов, жидов и ксендзов, жгли панские дворы и замки. Польский отряд с помощью реестровых казаков оттеснил их на какой-то остров, окруженный рекой и болотами. Гайдамаки сделали засеки и долго отстреливались, пока ночью реестровый казак не указал полякам какого-то способа перехода через болото… Наутро польское войско кинулось на засеки, гайдамаки отчаянно защищались, но, наконец, погибли все до одного, последними пали от рук своих же братьев ватажки «Чуприна та Чортовус»; один из них был изображен на виньетке. Кончался этот рассказ соответствующей моралью: реестровый казак внушал своим товарищам, как нехорошо было с их стороны сражаться против своих братьев – гайдамаков, которые боролись за свободу с утеснителями – поляками…
Брошюрка эта не произвела на меня того впечатления, какого ожидал Буткевич. Рассказ велся от имени реестрового казака, но я не был реестровым казаком и даже не знал, что это такое. Мораль состояла в том, что гайдамаков не следовало истреблять, а нужно было помотать им. Но и гайдамаков нигде уже не было. Не было также и ярких картин и образов, захвативших мое воображение в польском театре. Был только довольно бледный рассказ о том, что гайдамаки пришли резать панов, а паны при помощи «лейстровых» вырезали гайдамаков… Рассказчик от себя прибавлял, что гайдамаки поступали хорошо, а «лейстровые» плохо, но для меня и те и другие были одинаково чужды.
Одно только последствие как будто вытекало из открытия, сделанного для меня Буткевичем: если я не москаль, то, значит, моему бывшему другу Кучальскому не было причины меня сторониться. Эта мысль пришла мне в голову, но оскорбленная гордость не позволила сделать первые шаги к примирению. Это сделал за меня мой маленький приятель Стоцкий. Однажды мы проходили с ним по двору, когда навстречу нам попался Кучальский, по обыкновению один. Стоцкий со своей обычной почти обезьяньей живостью схватил его за руку и сказал:
– Слушай, Кучальский. Поди с нами. Ведь он не москаль. Буткевич говорит, что он малоросс.
Кучальский на минуту остановился, как будто колеблясь, но затем взгляд его принял опять свое обычное упрямо – печальное выражение…
– Это еще хуже, – сказал он, тихо высвобождая свою руку, – они закапывают наших живьем в землю….
Эта простая фраза разрушила все старания украинца – учителя. Когда после этого Буткевич по – украински заговаривал со мною о «Чуприне та Чортовусе», то я потуплялся, краснел, замыкался и молчал.
Может быть этому способствовало еще одно обстоятельство. В нашей семье тон был очень простой. У отца я никогда не замечал ни одной искусственной ноты. У матери тоже. Вероятно поэтому мы были очень чутки ко всему искусственному. Между тем вся фигура нового учителя казалась мне, пожалуй, довольно привлекательной, даже интересной, но… какой-то не настоящей. Он одевался так, как никто не одевался ни в городе, ни в деревне. Тонкий казакин, кисет на шнурке, люлька в кармане широких шаровар, казацкие подусники – все это казалось не настоящим, не природным и не непосредственным, а «нарочным» и деланным. И говорил он не просто, как все, а точно подчеркивал: вот видите, я говорю по – украински. И мне казалось, что если, по его требованию, я стану отвечать ему тоже на украинском языке (который я знал довольно плохо), то и это выйдет не настояще, а нарочно, и потому «стыдно».
В Буткевиче это вызывало, кажется, некоторую досаду. Он приписал мое упорство «ополячению» и однажды сказал что-то о моей матери «ляшке»… Это было самое худшее, что он мог сказать. Я очень любил свою мать, а теперь это чувство доходило у меня до обожания. На этом маленьком эпизоде мои воспоминания о Буткевиче совсем прекращаются.
Счастливая особенность детства – непосредственность впечатлений и поток яркой жизни, уносящий все вперед и вперед, – не позволили и мне остановиться долго на этих национальных рефлексиях… Дни бежали своей чередой, украинский прозелитизм не удался; я перестрадал маленькую драму разорванной детской дружбы, и вопрос о моей «национальности» остался пока в том же неопределенном положении…
Но и неоформленный и нерешенный, он все-таки лежал где-то в глубине сознания, а по ночам, когда пестрые впечатления дня смолкали, он облекался в образы и управлял моими снами.
Из этик снов один запомнился мне особенно ярко.
Было раннее утро. Сквозь дремоту я слышал, как мать говорила из соседней комнаты, чтобы открыли ставни. Горничная вошла в спальню, отодвинула задвижку и вышла на двор, чтобы исполнить приказание. И когда она вышла, скрипнув дверью, меня опять захватил еще не рассеявшийся утренний сон. И в нем я увидел себя Наполеоном.
У меня было его лицо, я был в его сером сюртуке, в треугольной шляпе, со шпагой. Я приехал в Россию, чтобы сделать здесь какое-то важное дело и кого-то непременно защитить… Какое это дело, и кто ждал моей защиты – это было неясно. В смутном облаке неопределенно болящих ощущений носились и фигуры Рыхлинских, и солдат Афанасий, и моя плачущая мать, и мать Стройновского… Где-то слышались отдельные выстрелы и крики и стоны… Я очень долго скитаюсь среди смутной тревоги и опасностей, ища и не находя того, кто мне был нужен. Наконец кто-то берет меня в плен, и меня сажают в тот самый домик на Вельской улице, где, по рассказам, сидела в заключении знаменитая девица Пустовойтова[51 - Пустовойтова Анна (1838–1881) – дочь русского генерал-майора Феофила Пустовойтова и польки. Участвовала в польском восстании. В 1863 году была адъютантом Лянгевича, одного из руководителей восстания.] – Иоанна д’Арк «повстанья». В нем еще темно, но в щели ставней проникают яркие лучи дня, а у дверей брякает оружие. И вдруг в комнату врываются солдаты. Они выстраиваются в ряд. Я становлюсь против них и расстегиваю свой мундир. Внезапный грохот залпа, в груди ощущение удара и теплоты, и ослепительный свет разливается от места этого удара…
Я проснулся. Ставни как раз открывались, комнату заливал свет солнца, а звук залпа объяснялся падением железного засова ставни. И я не мог поверить, что весь мой долгий сон с поисками, неудачами, приключениями, улегся в те несколько секунд, которые были нужны горничной, чтобы открыть снаружи ставню…
Сердце у меня тревожно билось, в груди еще стояло ощущение теплоты и удара. Оно, конечно, скоро прошло, но еще и теперь я ясно помню ту смутную тревогу, с какой во сне я искал и не находил то, что мне было нужно, между тем как рядом, в спутанном клубке сновидений, кто-то плакал, стонал и бился… Теперь мне кажется, что этот клубок был завязан тремя «национализмами», из которых каждый заявлял право на владение моей беззащитной душой, с обязанностью кого-нибудь ненавидеть и преследовать…
XIV
Житомирская гимназия
Это было время перелома в воспитательной системе. В обществе и литературе шли рассуждения о том, «пороть ли розгами ребенка, учить ли грамоте народ». В Киевском округе попечителем был знаменитый Пирогов[52 - Пирогов Николай Иванович (1810–1881) – известный ученый, врач и педагог.]. Незадолго перед тем (в 1858 году) он издал ряд блестящих статей о воспитании, в которых решительно высказывался против розог[53 - …решительно высказывался против розог. – Здесь имеются в виду статьи Н. И. Пирогова «Вопросы жизни», первая из которых была помещена в 1856 году (а не в 1858, как указывает Короленко) в «Морском сборнике» № 9.]. Добролюбов[54 - Добролюбов Николай Александрович (1836–1861) – великий русский критик, публицист, революционный демократ. В журнале «Современник» (1857, кн. 5-я) Добролюбов за подписью Н. Л. поместил статью «Несколько слов о воспитании». В этой статье Добролюбов приветствует и развивает мысли, высказанные Пироговым в «Вопросах жизни».] горячо приветствовал эти статьи, тем более что они вышли из-под пера практического деятеля в области воспитания. Добролюбов сделал из них заключение, что, значит, в Киевском округе розга отошла уже в область предания. Оказалось, однако, что надежды эти были преждевременны. В следующем 1859 году Пироговым было созвано «совещание», в котором участвовали, кроме попечителя и его помощника, некоторые профессора, директоры, инспекторы гимназий и выдающиеся учителя. Совещание высказалось за «постепенность реформы» и, сохраняя розгу, решило только регламентировать ее применение. Пирогов не только не остался при особом мнении, но еще прибавил свою мотивировку к знаменитым в свое время «правилам», в которых все виды гимназических преступлений были тщательно взвешены, разнесены по рубрикам и таксированы такими-то степенями наказаний[55 - …таксированы такими-то степенями наказаний. – «Правила о проступках и наказаниях учеников гимназий Киевского учебного округа» напечатаны в «Журнале для воспитания», № 11, 1859 г.]. Таблица с этими рубриками должна была висеть на стене, и ученику, совершившему проступок, предстояло самому найти его в соответствующей графе. Предполагалось, что это будет «способствовать развитию чувства законности». В числе провинностей, неизбежно навлекавших телесное наказание, значился, между прочим, «религиозный фанатизм».
Это был компромисс «теории с практикой» и притом очень неудачный. Правила не продержались и нескольких лет. «Дух времени» быстро изгонял розгу, но там, где педагогическая рутина еще держалась, принципиальное признание телесных наказаний было ей очень на руку. Добролюбов ответил на появление «правил» резкой статьей, полной горечи и сарказма[56 - …ответил… статьей, полной горечи и сарказма – статья Н. А. Добролюбова «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами», напечатанная за подписью Н-бов в журнале «Современник» (1860, кн. 1-я).] по адресу Пирогова. Вся журналистика разделилась на два лагеря: за и против Добролюбова, причем «умеренный либерализм» того времени был за попечителя и за постепенность против журналиста с его радикальными требованиями. В этом споре на долю житомирской гимназии выпала своеобразная известность. Оказалось, что по количеству случаев порки она далеко оставила за собой все остальные: в 1858 году из шестисот учеников было высечено двести девяносто. Это было в семь раз чаще, чем, например, в киевской второй гимназии, и в тридцать пять раз больше, чем в киевской первой. Простодушные старозаветные педагоги, с директором Киченком во главе, проставили в своем ответе на запрос Пирогова эту красноречивую цифру, очевидно, не предвидя эффекта, который ей суждено было вызвать.
Я был тогда слишком мал и не помню, в какой мере отголоски этого журнального спора проникали в гимназическую среду. У нее была своя литература, заучиваемая на память, ходившая в рукописях и по альбомам. Ученическая муза неизменно настраивалась при этом на сатирический лад. Я помню длинную поэму в стихах, написанную, кажется, очень недурно, в которой говорилось, между прочим, что в Житомире не могут ужиться «учителя – люди» среди «учителей – зверей». По какой-то роковой неизбежности «людей» похищает нечистая сила:
Взяли черти Трофимова,
Возьмут Добрашова… —
говорил, между прочим, неизвестный автор, не щадивший красок для изображения педагогов, остающихся в педагогическом зверинце.
Уже по тону этих произведений, проникнутых горечью и злобой, можно было бы судить, какие благодарные чувства возбуждала тогдашняя школа и с каким настроением выпускала она в жизнь своих питомцев.
Ярче запомнилось мне другое шуточное «подпольное» произведение, где выступала злоба дня современной педагогической литературы. Это было «сказание о Мине». «Бе некий человек, – говорилось в этом сказании, – именем дерзновенный Прометей, сиречь ученик Буйвид. И той похищайте огнь с небесе, сиречь книги из класса. И бог Зевес, сиречь директор Киченко, приковаше его к кавказской скале, сиречь скамье в карцере. И абие свирепый коршун, сиречь сторож Мина, клеваше печень его, сиречь з – цу, железным клювом, сиречь розгою. И услыша вопли его Геракл, сиречь Буйвид – отец…»