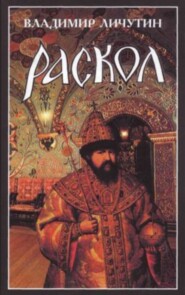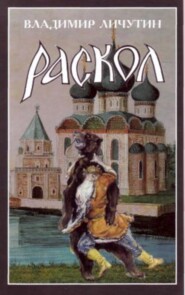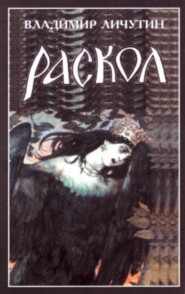По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Скитальцы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Из пятника, круглой дыры в стене, достала деревянный чурбачок, чтобы дым выкатывал вон. Двери распахнула, наставила поддверки, чтобы мороз не валил низом, иначе избу век не натопишь... Осподи, надо бы на реку сбегать, проруби пешней подновить, небось схватило стужей. Яшкино то дело, уж которую зиму наблюдает за майнами, прорубями, пролубником он на деревне, людишек да скот водой обеспечивает. Каждый воскресный день идет по Дорогой Горе, колотит в избы батогом, кричит: «Пролубнику... Крива рука просит, пряма подает, кто подаст, тот хороший князь, а кто не подаст – подпорожна грязь». Наподают хлеба, да калачей, да шанег полную берестяную корзину – на всю неделю еда. Нынче самой Павле пришла нужда идти по Дорогой Горе, стучать в стены батогом, да у нее уж так не получится, не знает она красного словца, язык-то у нее не так прилажен, да и стыд мучает. Словно бы старица-нищенка милостыню просит. А она ведь из хорошей семьи, когда-то и Шумовы сыто жили, масло коровье в избе не выводилось и в мясе птичьем или скотском нужды не знали. А не дал только Бог счастья: не зажились парни в отцовском доме – кто в леса подался, кто в Питер на приработки, да там и помер от чахотки, кто свое хозяйство повел, вот и рухнул шумовский род. Остались старик Захарий да девка его Павла.
Еще первое время хорохорился, меньшего сына из рекрутов выкупил, триста рублей серебром отдал: в долги вошел на три года, а он, Мишка-то, хвостом вертанул, а где сейчас – ни слуху ни духу. Гонористый был Захарий, и, может, через свой характер обрезал он Павлину жизнь. Было девке шестнадцать годков, посватались в первый раз, а Захарий наотрез: «Уж не отдам девку, она мала еще, глупа, не на то я растил ее, чтобы сразу из дому сбывать. Пусть поживет-потешится». Правда, уж какое тешенье девке, если весь дом на ее плечах. Но, как говорят, суженого конем не объедешь, да и отцу не расчет девку в доме квасить. Через год посватался Тимоня Заречный, косоротый парень, но из богатой семьи: знать, работница запонадобилась, а Павла уж тогда в кости была широка, сарафаны лопались.
Пришел Тимоня Заречный со сватами, еще на пороге нос на сторону завернул: душной запах в избе. Заметил Захарий кислое лицо жениха, насупился в душе, но виду не показал. Зарученье своим ходом двинулось, сват жениха нахваливает: парень-то красавец и дом от богачества ломится. Уж не по одной чарке опрокинули, Богу помолились, перед образами свечи зажгли, икону сняли, чтобы благословить, и спросил тут Захарий у жениховых родителей: «Любо ли наше дитя?»
– А не любо бы, дак и не брали бы, – учтиво сказали старики.
Только Тимоня опять губы скривил и фыркнул:
– На рожу, правда, не то чтобы писаная...
Может, хмель охватил Захария, да и не мог он такого стерпеть, чтобы его дочь-то прилюдно поносили, схватил Тимоню за шиворот да хорошенько тряхнул, выпнул за порог.
– Ах ты морда косорылая, уродина криворотая, – заорал, – нашу девку хулить? Нету у нас невесты для вас.
– Уж не такой товар и хранить, – заикнулся было женихов родитель. Но ему и слова больше не дали сказать, под руки вывели невестины дружки. А на дворе поезжане заворотки у саней подрубили, вожжи у лошадей обрезали, супони ополовинили; в розвальни животину не запрячь, кое-как кушаками от праздничных кафтанов подвязали оглобли и долой со двора.
Опозорил Захарий жениха, а Павла во хлеву пряталась, слезы лила, словно бы чуяла свою беду, свою постылую судьбу. С того раза больше не наезжали к Шумовым сваты, и Захарий не однажды себя казнил за норов и гнев, винился перед дочерью.
... Печь прогорела, лишний дым из жилья выкатился, осел на потолке жирной бахромой. Павла поддверок выставила к стене, дверь прихлопнула плотнее, иначе избу не натопишь, пятник в стене заткнула. Выхватила на шесток чугун с гречневой кашей, наклала половником в миску, двинула сыну.
– На, жори, ненаеда. Гречнева-то каша – мать наша, а хлеб аржаной – отец наш родной. Как доживать зиму будем? Опять к Петре Афанасьичу на поклон идти. Не батька бы твой, дак помирать нам, слышь?
– Угу, – давился кашей Клавдя, черпал ложку с горкой, наворачивал – торопился, роняя изо рта на рубашонку.
– Не давись, нехристь, не отыму. Сколь ты нажористый. Каков в работе будешь только. А я поробила на Петрино пузо. Осподи, эстолько бы на себя поробить, дак разбогатела бы, кажись. С Прокопьева дня и до Покрова как ломовая лошадь... Ой, где-то Яшенька наш?
– Рыбы привезет, ести будем.
– Наварим ужо ухи из свежины, – согласилась Павла.
– Ма, дай титьку почукать...
– Помолчи, третий год пошел, какая тебе титька. Всю начисто мать-то высосал.
– Дай титьки, – заревел Клавдя, пролез в подстолье, стал рыться в материных юбках.
– Замолчи, ишь чего выдумал. Полезай на полати. Живьем готов съесть. Уж Яшка такой не был.
В загородке застучала копытцами телушка, стала подниматься, вся черная, с медового цвета глазами. Поднялась, затеребила корову слюнявой мордочкой, отыскивая вымя. Корова блаженно мыкнула, топыря широкий зад, зачесалась об угол. Павла сразу о сыне забыла, сбегала на поветь, притащила своей красавице плетеную кошелку мелкого сенца, кинула в ясли. Корова сонно захрупала сеном, кося на хозяйку ленивые глаза, и с бархатно-пепельных губ тянулась густая слюна.
– Пестронюшка ты моя, кормилица. Откуда экого черта выгуляла, с кем спроказила? – Павла пробовала приласкать телушку черную, без единой светлой пролысинки, но та упырилась, деловито тыкалась в тугое материнское вымя, скользя задними копытцами, порой отпрядывала, боясь собственной тени, и тогда в стороны прыскали тонкие струйки молока. Клавдя по-звериному ползал на коленках подле, заглядывал, как сосет Чернавушка. Павла отпихивала сына ногой, не дай Бог, наступит корова.
– Помяни Господи царя Давида, матери Елены до цернавина житья... Клавка, поди прочь. Весь измазюкался, сейчас схлопочешь уже. – Выставила сына из загородки, но тот упрямо лез обратно. – Посмотри, на кого ты похож-то?.. Как белая березонька стоит, вовеки не колыхнется, так бы теляти моя жила веки повеки.
Вдруг засмеялась Павла, вспомнила, как Пестронюшку первый раз выдаивала. Осподи, будто вчера и случилось, как принесла телушечку от Петры Чикина. За бабу Васеню отблагодарил. Спасибо, Петра Афанасьич, спаситель ты наш... Осподи, дай доброго промыслу мужику, где-то и Яшенька с им на морозе колеет.
И не заметили, как выросла Пестронюшка, доброй коровой стала. Павла тогда бабу Соломонею позвала, у нее заговор сильный. Нашептала бабка на миску с водой: «Осподи, Боже благослови! Как основана земля на трех китах, на трех китицах, как с места земля не сшевелится, так бы любимая Пестронюшка с места не шевелилась. Не дай ей, Господи, ни ножного ляганья, ни хвостового маханья, ни рогового боданья. Стой горой, а дой рекой, озеро сметаны, река молока, ключ и замок словам моим».
Обмыла Павла коровье вымя заговорной водой, на скамеечку села, от радости даже заплакала, Боже праведный, дожила до красного дня: благодать ныне с коровкой-то. И молоко шипучее поскакало, забилось в подойнике, пеной накрылось. Отдоила Павла, намерилась встать, а Пестронюшка, какая муха ее укусила только, лягнула прямо в подойник и выбила из рук. Молоко пролилось, Павла в навоз спиною бряк: ой, горя-то было, ой, слез-то пролилось тогда. Баба Соломонея вон из дому, подальше от греха, недели две не появлялась на глаза и на людях Павлу винила: мол, сама недомыслила, не с того ручья водицы взяла.
Но удачный пал заговор: нет смирнее коровушки на всей Дорогой Горе, чем Павлина Пестронюшка, и нет дойнее ее и на живот круглее. Идет с поскотины, так вымя, будто ушат хороший, по траве волочится, и молоко брызжет. Духмяное у Пестронюшки молоко... «Ой, что это я? – спохватилась Павла. – Уже день-деньской, а я, будто палагушка дырявая, в безделье сижу. Люди-то добрые засмеют, вот, скажут, Павлуха-то Шумова в грязи заросла, а еще мужиками правит». Да пропади они все пропадом, совсем боле смешат люди: без копейки, задаром и шага не ступят. Бабу в полицейские соцкие выбрали, да какой из нее соцкий, прости Господи. Павлу, кричат, в соцкие, она баба здоровая, любого мужика усмирит, и хозяйства никакого. Орут, а каждый во свой двор смотрит, на общественные работы и силком не выгонишь. Рестанта-то в Мезень везешь, а у самой поджилки трясутся: ведь как ни здоровущая баба, а все одно баба, и маленький мужичонко – да востер. Лесом-то везешь, осподи, думаешь, сзади колонет чем, а дома и корова не доена, и малы дети не обряжены: осиротеют, дак кто их оприютит, по миру пойдут кусочки просить. У казенки-то кто задерется, нет бы мужикам разнять, дак глазеют да смешки строят, а до крови дойдет, бегут к Павлухе Шумовой, – она начальство, пусть и разнимает.
А ведь Петру Афанасьича хотели в соцкие, сама слышала, как писарь мужиков подговаривал. А Петре что: у него нынче и убыток в прибыток, четверть вина мужикам наобещал да выпоил, вот и остался в стороне. А у нее уж нет таких денег, чтобы от горланов отвязаться, а им бы только покричать.
Засобиралась Павла, что-то в волостное правление звали, посыльный прибегал, не убили ли кого: опять воровские следы охранять. Кроме Павлы тут некому, а когда Павлины дети с голодухи ноют, тут все в стороны морды воротят, никто не спросит: Павлуха, тебе, может, чем помочь? Ироды окаянные.
Павла надела шубу-пятишовку, синим сукном крытую, еще из девичьего приданого шуба, уж сколько лет носит, а новой не завела; натянула оленью шапку-поморку с завязками до пояса, батог в углу захватила, свой полицейский знак, прикрикнула на Клавдю: «Дома сиди, катанцы здря не трепли».
Пошла из дома, а душа что-то ноет. Брюзжала, путаясь в сугробах... Поротую бабу в соцкие выбрали. Есть ли у мира нашего разум? Ой-ой-ой. Наверно, опять рестанта везти, а если рестанта, то где подводу брать? У Петрухичей была, у Пимокатов лошадь в город ушла, Колюбаки на Канине наваги достают... А понеси леший эту должность. Были бы деньги, дак две бы четверти вина поставила, пусть бы опились, только не выбирали в соцкие. Ой-ой, кто это? Не Яшка ли, обормотина, откуль он? Заколел весь, и под носом-то намерзло, пешней не отдолбить...
Павла даже споткнулась, разинула рот, поджидая на тропе сына. Яшкина овчинная шапка едва из-за сугробов видать, осподи, ребенок еще, четырнадцатый годик на Рождество пошел.
– Яшка, ты откуль, пошто не на рыбе?
А Яшка зверино глянул на мать, с лица весь черный, щеки в пятнах, поморожены, пимы на ногах разбиты, онучи из передов вылезают, примотаны веревками, чтобы не вывалились. Глянул на мать и промолчал: редкое слово теперь скажет, как появился на свет Клавдя. Тому-то проходу не дает, совсем парня затуркал. А матери обоих жаль.
– Натворил чего, находальник? Куда тебя мать спровадила, на озера?
– Загунь, чего разнылась, – круто отрезал Яшка.
– Ну-ну, – сразу завиноватилась Павла. – Ой, што это я, глупа баба. Ты ведь заколел совсем. Пойдем скорее в избу, я тебя обихожу, баньку затоплю. – Схватила сына за армяк, поволокла в дом.
В избе Клавка подкатился навстречу, наставил зеленые пятнистые глаза.
– Ой, Яша пришел, Яша пришел, рыбу принес, свежу уху варить будем.
– Поди прочь-ту, Петрухич вонькой, – огрызнулся Яшка, пнул Клавдю, тот повалился на пол, нарошно рев поднял, егозя рубахой под носом.
– Ну, слава Богу, началось опять светопреставление, – почему-то обрадованно сказала Павла. – Уж миру промеж вас нету. Вот детиши-то ой-ой.
Глава третья
Донька сидел на низком еловом чурбачке посреди избы, и когда Яшка вошел, то с улицы, пока не пригляделся, не сразу и узнал приятеля, – так переменился парень. Был на Донате кожаный фартук до пят, рубаха из крашенины распахнута, плечи под нею прямые и острые, но руки лежат на коленях совсем мужичьи: распяленные, в рубцах, с толстыми обкусанными ногтями и набухшими козонками.
– Осподи, ты ли? Какими ветрами? – ласково приветил Донька. – Проходи да садись, нечего ободверины подпирать. Я даве же у матери твоей был, про тебя спрашивал, сказывала, на рыбе ты... Ну чего уставился, сколотна сирота?
– Не зови ты меня эдак, – хмуро попросил Яшка, потом еще раз пристально вгляделся в Доньку, совсем не признал он названого брата. Волосы на голове огрубели и окрасились медью, глаза загустели, совсем мало стало в них голубизны, и на носу густо выметались веснушки. – Был я и на рыбе, да весь вышел. Где татушка твой?
– На озерах с дядей Гришаней неводят. Уж месяц, считай, сидят.
– А-а-а, ну да. – И Яшка невесело рассмеялся, отвесив нижнюю распухшую губу. – А я Петре Живоглоту устроил хорошее веселье. Попомнит меня...
– За што ты его травишь-то, Яшка? Он ведь злопамятный. В кой ли раз приникнет насовсем.
– Пусть-ко спробует. Я как от него удрал, пятнадцать верст тайболой, да в одинку...
– Да ну? – Донька даже работу отставил, перебрал в ладонях добрую полудюжину резцов.
Еще первое время хорохорился, меньшего сына из рекрутов выкупил, триста рублей серебром отдал: в долги вошел на три года, а он, Мишка-то, хвостом вертанул, а где сейчас – ни слуху ни духу. Гонористый был Захарий, и, может, через свой характер обрезал он Павлину жизнь. Было девке шестнадцать годков, посватались в первый раз, а Захарий наотрез: «Уж не отдам девку, она мала еще, глупа, не на то я растил ее, чтобы сразу из дому сбывать. Пусть поживет-потешится». Правда, уж какое тешенье девке, если весь дом на ее плечах. Но, как говорят, суженого конем не объедешь, да и отцу не расчет девку в доме квасить. Через год посватался Тимоня Заречный, косоротый парень, но из богатой семьи: знать, работница запонадобилась, а Павла уж тогда в кости была широка, сарафаны лопались.
Пришел Тимоня Заречный со сватами, еще на пороге нос на сторону завернул: душной запах в избе. Заметил Захарий кислое лицо жениха, насупился в душе, но виду не показал. Зарученье своим ходом двинулось, сват жениха нахваливает: парень-то красавец и дом от богачества ломится. Уж не по одной чарке опрокинули, Богу помолились, перед образами свечи зажгли, икону сняли, чтобы благословить, и спросил тут Захарий у жениховых родителей: «Любо ли наше дитя?»
– А не любо бы, дак и не брали бы, – учтиво сказали старики.
Только Тимоня опять губы скривил и фыркнул:
– На рожу, правда, не то чтобы писаная...
Может, хмель охватил Захария, да и не мог он такого стерпеть, чтобы его дочь-то прилюдно поносили, схватил Тимоню за шиворот да хорошенько тряхнул, выпнул за порог.
– Ах ты морда косорылая, уродина криворотая, – заорал, – нашу девку хулить? Нету у нас невесты для вас.
– Уж не такой товар и хранить, – заикнулся было женихов родитель. Но ему и слова больше не дали сказать, под руки вывели невестины дружки. А на дворе поезжане заворотки у саней подрубили, вожжи у лошадей обрезали, супони ополовинили; в розвальни животину не запрячь, кое-как кушаками от праздничных кафтанов подвязали оглобли и долой со двора.
Опозорил Захарий жениха, а Павла во хлеву пряталась, слезы лила, словно бы чуяла свою беду, свою постылую судьбу. С того раза больше не наезжали к Шумовым сваты, и Захарий не однажды себя казнил за норов и гнев, винился перед дочерью.
... Печь прогорела, лишний дым из жилья выкатился, осел на потолке жирной бахромой. Павла поддверок выставила к стене, дверь прихлопнула плотнее, иначе избу не натопишь, пятник в стене заткнула. Выхватила на шесток чугун с гречневой кашей, наклала половником в миску, двинула сыну.
– На, жори, ненаеда. Гречнева-то каша – мать наша, а хлеб аржаной – отец наш родной. Как доживать зиму будем? Опять к Петре Афанасьичу на поклон идти. Не батька бы твой, дак помирать нам, слышь?
– Угу, – давился кашей Клавдя, черпал ложку с горкой, наворачивал – торопился, роняя изо рта на рубашонку.
– Не давись, нехристь, не отыму. Сколь ты нажористый. Каков в работе будешь только. А я поробила на Петрино пузо. Осподи, эстолько бы на себя поробить, дак разбогатела бы, кажись. С Прокопьева дня и до Покрова как ломовая лошадь... Ой, где-то Яшенька наш?
– Рыбы привезет, ести будем.
– Наварим ужо ухи из свежины, – согласилась Павла.
– Ма, дай титьку почукать...
– Помолчи, третий год пошел, какая тебе титька. Всю начисто мать-то высосал.
– Дай титьки, – заревел Клавдя, пролез в подстолье, стал рыться в материных юбках.
– Замолчи, ишь чего выдумал. Полезай на полати. Живьем готов съесть. Уж Яшка такой не был.
В загородке застучала копытцами телушка, стала подниматься, вся черная, с медового цвета глазами. Поднялась, затеребила корову слюнявой мордочкой, отыскивая вымя. Корова блаженно мыкнула, топыря широкий зад, зачесалась об угол. Павла сразу о сыне забыла, сбегала на поветь, притащила своей красавице плетеную кошелку мелкого сенца, кинула в ясли. Корова сонно захрупала сеном, кося на хозяйку ленивые глаза, и с бархатно-пепельных губ тянулась густая слюна.
– Пестронюшка ты моя, кормилица. Откуда экого черта выгуляла, с кем спроказила? – Павла пробовала приласкать телушку черную, без единой светлой пролысинки, но та упырилась, деловито тыкалась в тугое материнское вымя, скользя задними копытцами, порой отпрядывала, боясь собственной тени, и тогда в стороны прыскали тонкие струйки молока. Клавдя по-звериному ползал на коленках подле, заглядывал, как сосет Чернавушка. Павла отпихивала сына ногой, не дай Бог, наступит корова.
– Помяни Господи царя Давида, матери Елены до цернавина житья... Клавка, поди прочь. Весь измазюкался, сейчас схлопочешь уже. – Выставила сына из загородки, но тот упрямо лез обратно. – Посмотри, на кого ты похож-то?.. Как белая березонька стоит, вовеки не колыхнется, так бы теляти моя жила веки повеки.
Вдруг засмеялась Павла, вспомнила, как Пестронюшку первый раз выдаивала. Осподи, будто вчера и случилось, как принесла телушечку от Петры Чикина. За бабу Васеню отблагодарил. Спасибо, Петра Афанасьич, спаситель ты наш... Осподи, дай доброго промыслу мужику, где-то и Яшенька с им на морозе колеет.
И не заметили, как выросла Пестронюшка, доброй коровой стала. Павла тогда бабу Соломонею позвала, у нее заговор сильный. Нашептала бабка на миску с водой: «Осподи, Боже благослови! Как основана земля на трех китах, на трех китицах, как с места земля не сшевелится, так бы любимая Пестронюшка с места не шевелилась. Не дай ей, Господи, ни ножного ляганья, ни хвостового маханья, ни рогового боданья. Стой горой, а дой рекой, озеро сметаны, река молока, ключ и замок словам моим».
Обмыла Павла коровье вымя заговорной водой, на скамеечку села, от радости даже заплакала, Боже праведный, дожила до красного дня: благодать ныне с коровкой-то. И молоко шипучее поскакало, забилось в подойнике, пеной накрылось. Отдоила Павла, намерилась встать, а Пестронюшка, какая муха ее укусила только, лягнула прямо в подойник и выбила из рук. Молоко пролилось, Павла в навоз спиною бряк: ой, горя-то было, ой, слез-то пролилось тогда. Баба Соломонея вон из дому, подальше от греха, недели две не появлялась на глаза и на людях Павлу винила: мол, сама недомыслила, не с того ручья водицы взяла.
Но удачный пал заговор: нет смирнее коровушки на всей Дорогой Горе, чем Павлина Пестронюшка, и нет дойнее ее и на живот круглее. Идет с поскотины, так вымя, будто ушат хороший, по траве волочится, и молоко брызжет. Духмяное у Пестронюшки молоко... «Ой, что это я? – спохватилась Павла. – Уже день-деньской, а я, будто палагушка дырявая, в безделье сижу. Люди-то добрые засмеют, вот, скажут, Павлуха-то Шумова в грязи заросла, а еще мужиками правит». Да пропади они все пропадом, совсем боле смешат люди: без копейки, задаром и шага не ступят. Бабу в полицейские соцкие выбрали, да какой из нее соцкий, прости Господи. Павлу, кричат, в соцкие, она баба здоровая, любого мужика усмирит, и хозяйства никакого. Орут, а каждый во свой двор смотрит, на общественные работы и силком не выгонишь. Рестанта-то в Мезень везешь, а у самой поджилки трясутся: ведь как ни здоровущая баба, а все одно баба, и маленький мужичонко – да востер. Лесом-то везешь, осподи, думаешь, сзади колонет чем, а дома и корова не доена, и малы дети не обряжены: осиротеют, дак кто их оприютит, по миру пойдут кусочки просить. У казенки-то кто задерется, нет бы мужикам разнять, дак глазеют да смешки строят, а до крови дойдет, бегут к Павлухе Шумовой, – она начальство, пусть и разнимает.
А ведь Петру Афанасьича хотели в соцкие, сама слышала, как писарь мужиков подговаривал. А Петре что: у него нынче и убыток в прибыток, четверть вина мужикам наобещал да выпоил, вот и остался в стороне. А у нее уж нет таких денег, чтобы от горланов отвязаться, а им бы только покричать.
Засобиралась Павла, что-то в волостное правление звали, посыльный прибегал, не убили ли кого: опять воровские следы охранять. Кроме Павлы тут некому, а когда Павлины дети с голодухи ноют, тут все в стороны морды воротят, никто не спросит: Павлуха, тебе, может, чем помочь? Ироды окаянные.
Павла надела шубу-пятишовку, синим сукном крытую, еще из девичьего приданого шуба, уж сколько лет носит, а новой не завела; натянула оленью шапку-поморку с завязками до пояса, батог в углу захватила, свой полицейский знак, прикрикнула на Клавдю: «Дома сиди, катанцы здря не трепли».
Пошла из дома, а душа что-то ноет. Брюзжала, путаясь в сугробах... Поротую бабу в соцкие выбрали. Есть ли у мира нашего разум? Ой-ой-ой. Наверно, опять рестанта везти, а если рестанта, то где подводу брать? У Петрухичей была, у Пимокатов лошадь в город ушла, Колюбаки на Канине наваги достают... А понеси леший эту должность. Были бы деньги, дак две бы четверти вина поставила, пусть бы опились, только не выбирали в соцкие. Ой-ой, кто это? Не Яшка ли, обормотина, откуль он? Заколел весь, и под носом-то намерзло, пешней не отдолбить...
Павла даже споткнулась, разинула рот, поджидая на тропе сына. Яшкина овчинная шапка едва из-за сугробов видать, осподи, ребенок еще, четырнадцатый годик на Рождество пошел.
– Яшка, ты откуль, пошто не на рыбе?
А Яшка зверино глянул на мать, с лица весь черный, щеки в пятнах, поморожены, пимы на ногах разбиты, онучи из передов вылезают, примотаны веревками, чтобы не вывалились. Глянул на мать и промолчал: редкое слово теперь скажет, как появился на свет Клавдя. Тому-то проходу не дает, совсем парня затуркал. А матери обоих жаль.
– Натворил чего, находальник? Куда тебя мать спровадила, на озера?
– Загунь, чего разнылась, – круто отрезал Яшка.
– Ну-ну, – сразу завиноватилась Павла. – Ой, што это я, глупа баба. Ты ведь заколел совсем. Пойдем скорее в избу, я тебя обихожу, баньку затоплю. – Схватила сына за армяк, поволокла в дом.
В избе Клавка подкатился навстречу, наставил зеленые пятнистые глаза.
– Ой, Яша пришел, Яша пришел, рыбу принес, свежу уху варить будем.
– Поди прочь-ту, Петрухич вонькой, – огрызнулся Яшка, пнул Клавдю, тот повалился на пол, нарошно рев поднял, егозя рубахой под носом.
– Ну, слава Богу, началось опять светопреставление, – почему-то обрадованно сказала Павла. – Уж миру промеж вас нету. Вот детиши-то ой-ой.
Глава третья
Донька сидел на низком еловом чурбачке посреди избы, и когда Яшка вошел, то с улицы, пока не пригляделся, не сразу и узнал приятеля, – так переменился парень. Был на Донате кожаный фартук до пят, рубаха из крашенины распахнута, плечи под нею прямые и острые, но руки лежат на коленях совсем мужичьи: распяленные, в рубцах, с толстыми обкусанными ногтями и набухшими козонками.
– Осподи, ты ли? Какими ветрами? – ласково приветил Донька. – Проходи да садись, нечего ободверины подпирать. Я даве же у матери твоей был, про тебя спрашивал, сказывала, на рыбе ты... Ну чего уставился, сколотна сирота?
– Не зови ты меня эдак, – хмуро попросил Яшка, потом еще раз пристально вгляделся в Доньку, совсем не признал он названого брата. Волосы на голове огрубели и окрасились медью, глаза загустели, совсем мало стало в них голубизны, и на носу густо выметались веснушки. – Был я и на рыбе, да весь вышел. Где татушка твой?
– На озерах с дядей Гришаней неводят. Уж месяц, считай, сидят.
– А-а-а, ну да. – И Яшка невесело рассмеялся, отвесив нижнюю распухшую губу. – А я Петре Живоглоту устроил хорошее веселье. Попомнит меня...
– За што ты его травишь-то, Яшка? Он ведь злопамятный. В кой ли раз приникнет насовсем.
– Пусть-ко спробует. Я как от него удрал, пятнадцать верст тайболой, да в одинку...
– Да ну? – Донька даже работу отставил, перебрал в ладонях добрую полудюжину резцов.