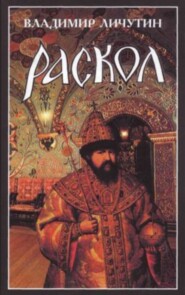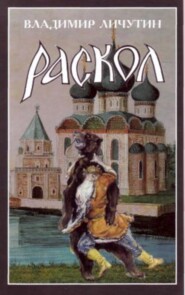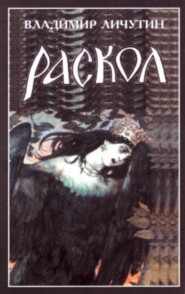По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Скитальцы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вот те и ну. Вон щеки-то у меня до кости сгнили.
– Отчаянный ты, – согласился Донька и склонился над утицей-солоницей, выбирая крючковатым резцом лишнее дерево. Яшка, уже раздражаясь, глядел на крестового брата... А как спешил к нему, немного и дома высидел, сразу сюда, думал, все расскажу Доньке, посмеемся, а после вместях и рванем из Дорогой Горы. Уж не стоит и начинать, вдруг решил, только зря время тянуть.
– Солонку с двумя утицами хочу сробить. Не знаю, правда, во што выльется. – Донька подвинул к себе поближе сальницы, льняной фитилек в глиняной плошке качнулся, затрещал. – Скорей бы Благовещенье, што ль, дак и свет бы загасили. Нонешней весной к Егорке Немушке в подмастерья иду.
Пригляделся внимательней к Яшке, увидел его черные щеки с водянистыми пузырями, злой опущенный рот и растерянные глаза.
– Ты чего букой-то?..
Но Яшка, отмалчиваясь, пошел к двери, устало ширкая катанцами, нагольная шуба еще с дедова плеча обремкалась по подолу, обвисла, как на пугале огородном. Что-то плохо гонит в рост Яшку Шумова.
– Чего мало сидел-то? – окликнул в спину Донька. – Посиди, дак вместях и поедим.
– В другой раз когда ли, – глухо отказался Яшка, побаиваясь остаться: вот засидится, разговорится с Донькой, и охота отпадет бежать.
... Уже завечерело, синей тихой мглой покрылись улицы. Мороз опал, и было уже терпимо идти с открытым лицом: не так ныли щеки. Мимо чикинской избы два раза кругом обежал Яшка, собаки знали его и ластились к ногам. На подворье было тихо, значит, Петра еще где-то в тайболе убивается и зять с обозом не вернулся.
Дома Яшка сказал матери, сильно жалея душой, готовый уткнуться в подол и зареветь:
– В Няфту с утра пойду к дединке[37 - Дединка – жена дяди.] Анне.
– И я с тобой, – заверещал Клавдя, но встал поодаль, уж больно скор на расправу Яшка.
– Соплюха еще...
– Какая дединка Анна, звала, што ли? Чего опять надумал? – всполошилась Павла, не зная уж с какого бока подступиться к сыну. Злой стал парнишка, словами говорит, а будто палкой стегает, и за волосье не надерешь, что ли сотворит с собой. Вот упырь растет.
– У дединки Анны ружье так же стоит, взаймы возьму полесовать, – городил Яшка, но все рядом с правдой, – ведь у тетки Анны от покойного мужика ружье пылится, про это и мать хорошо знает.
– Како тебе ружжо, еще застрельнешь себя, – запричитала Павла, все принимая за чистую монету.
– А это што тебе, баба-яга? – сбегал в сени, притащил и бросил перед матерью шкуры.
– И вправду, ой, золотко ты у меня, – встряхнула лису, та вспыхнула, огненно затрещала, потом накинула мех на плечо, приклонилась щекой, призакрыв глаза. – Исусе, благодать-то, бывало, и не перечтешь, братовья-то как нанесут из леса. И куничка тут. Ты, парень, не стащил где? – всмотрелась в Яшку, а у того смородиновые глаза сияют, как мокрые ягоды. Радостен парнишка, что угодил матери.
– Скажешь, как в лужу сядешь. Носи, матерь, на здоровье...
– И мине, и мине, – вертелся подле Клавдя, жадно тараща крапчатые глаза.
– Поди прочь-ту, Петрухич вонькой, – сказал почти ненавистно, сразу вспомнив Петру. Окинул взглядом избу, и все так показалось в ней родимым, что в горле защипало. И глухо, сдерживая слезу, добавил: – Поди, уродина.
– Ты хоть раз-то поласковей, Яшенька, – попросила Павла.
– Подите вы все в... Ненавижу... – вдруг в голос завыл Яшка, кинулся на полати, забился в старые окутки и затих.
– Сходи, сходи в Няфту, – стала уговаривать Павла. – Дединке Анне большой привет. Я тебе тут в пестерек соберу подорожничков.
Как стемнело, Яшка молча ушел, бродил по деревне; в самую полночь, проклиная скрипучий снег, тенью вырос у Петриного вонного амбара на высоких столбах. По лесенке подобрался к дверце, пробовал деревянным аншпугом сорвать замок, но тут всполошились собаки, заскрипели ворота, кто-то бежал на крыльцо, мигнул свет; Яшка прыгнул в снег и сугробами выбрел на угор, скатился вниз к реке, оттуда санной дорогой убежал домой.
А с первыми петухами был уже на ногах, быстренько собрался, мать суетилась подле в одной исподней юбке да в ватной душегрее, все наговаривала шепотом: не долго гостись да осторожней в дороге будь. А как прощались, может, в последний раз приклонился Яшка лбом к материному горячему плечу и, подавляя в себе жалость и слезы, даже позволил поцеловать себя. И сразу посуровел, оборвал жестко: «Ну, хватит мокрядь разводить. В гости, чай, еду, а не на каторгу». А Павла словно что слышала сердцем, подавляла в себе ноющую тоску, благословляла сына: «Осподи, дай Яшеньке шелковую уступчивую дорогу да оборони от злых татей, от лихих супостатов».
– Может, проводить тебя? – спохватилась, крикнула вдогон, живо накинула шубу, кинулась следом через темную поветь, выскочила на взвоз, а Яшки уж и нет нигде, словно провалился парень. Постояла, поохала, «быстро умелся, лешак», слышно было, как хлопнула щеколда, прошлепали валенки пустынной поветью, и только потом Яшка вылез из-под взвоза, отряхнулся от снега и потопал в Мезень.
Еще спала Дорогая Гора, будто вымерла в морозной сумеречности, ни одного огонька, ни одного светлого пятнышка, и даже колотушка караульщика не тревожила эти утренние часы. А внизу, у подножья деревеньки, куда хватал глаз, лежала беспросветная темь лесов да зыбь снегов, и только дальняя закраина неба тускло желтела, как шкура дворовой собаки. Именно там и лежала Мезень, где был однажды Яшка вместе с матерью и откуда идут обозы по всей Руси, и, говорят, даже на Питер... Вот и побежал Яшка, благослови его осподи, дай уступчивую дороженьку, побежал, как мечталось-мыслилось когда-то, словно решил уйти от судьбы своей иль найти ее в разбойной шайке, каких немало бродит ныне по темной матушке-Руси, а может, осесть в петербургском третьеразрядном трактиришке и заработать там золотую серьгу в ухо и посмертный сифилис от такой же безродной девки. Кто знает, кто знает...
До Мезени Яшка добрался на попутных, повезло парню, в городе покрутился день, назвался сиротой, притворно плакал, напросился в обоз до Архангельского, клятвенно заверяя, что тетка у него в Соломбале, вдова адмиралтейского плотника Коковкина. Но пустым не ринешься в дальнюю дорогу, и накануне, перед тем как пойти обозом, попал Яшка в дом купца Артемия Антипина (каким-то боком свояка, в тот приезд с матерью чаи у него пили с городскими калачами). Когда все спали в доме, забрался нижними воротами, откинув щеколду, поднялся во второе жило – в летние горницы – и взял из сундуков восемь аршин гранитура алого, два конца китайки черной замшевой, четырнадцать аршин пестряди синей да пять аршин тику волнистого красного, да полушубок суконный, серо-немецкий, совик, кафтан зеленого сукна, двух соболей, перчатки замшевые, шитые золотом, штаны плисовые да шапку бобровую мерлушчатую.
Смелость нашла на парня безрассудная, бродил по обеим горницам, как по своей избе, светил горящей лучиной, смотрелся в огромные зеркала в черной оправе, посидел на гнутых венских стульях, еще пошарил, не побоялся, за божницей и нашел там медных денег два рубля да один золотой. Нагрузился Яшка, теми же воротами вышел, а нести тяжело, запыхался, до верхнего конца Мезени поднялся, стороной миновал рогатку с караульщиком и мешок с добром в снег закопал, а взял с собой только то, что в пестерь влезло: два платка шелковых, совик белый, кафтан зеленого сукна, двух соболей и перчатки, шитые золотом. А утром сел в середину обоза на уголок саней с мерзлой навагой, надвинул на овчинный треух олений куколь краденого белого совика и задремал под накатистый скрип полозьев. Порой у горушек его окликивали возницы, Яшка торопливо спрыгивал и поднимался рядом с санями. В начале дороги было чуть грустно, а более всего страшновато от ожидаемой погони, потом пошли совсем чужие деревни; Яшка осмелел, на первом же постоялом дворе он стал как бы своим парнем, тоже соседился к чашке с тюрей из водки и ржаных крох, и даже пару раз потянулся к ней с ложкой и проглотил что-то противно-горькое, а потом лежал на полатях и сверху глазел на возчиков счастливыми осоловелыми глазами. И жизнь для Яшки виделась противу прежнего совсем иной и необыкновенной, и не хватало в ней только матери и приятеля Доньки...
Глава четвертая
И стал Донька Богошков у Егора Немушки подмастерьем. Калина подивился, откуда у сына старанье к топорной работе, потом вспомнил свою молодость и сказал: «Поди, воля твоя... У топора – не у моря, проживешь без горя».
И вот дней за десять до Аграфены-купальницы собрались они кокоры рубить. Решили подняться по Кулою верст на десять, а оттуда еще по Нерюге-речке обойти стороной широкие рады-болотины с чахлым ельником и попасть на горные боры. День стоял погожий, июньский, весна ожила, уже березы распушились листом и родился на солнечных приречных местах овод-нуда; мужики сушили на вешалах поплавни, латали в неводах прорехи; тут же дымились костры и по всей деревне наносило кипящей смолой и пареным вереском.
Когда солнце прошло через полудень и в реке стала заживать вода, когда смоленые челны качнула народившаяся волна, взяли пожитки и пошли красной арешниковой тропой вниз. Тут-то и обнаружил Донька с удивлением, что обогнал в длину Егора Немушку и уже сверху вниз с некоторым превосходством глянул на его рябоватое лицо, словно бы покрытое густой ржавчиной, на рыжие клочковатые брови и нос утушкой, политый крупными шадринами, на постоянную овчинную шапку с одним заткнутым ухом. Егор Немушко думал свою думу, жевал постные губы, шевелил сухими плечами и что-то гундосил под нос, но ступал мужик кривыми стоптанными ногами надежно, и подштанники вздувались над кожаными броднями белыми пузырями. Мужик и парнишка шли бок о бок и поразительно похожи были, если глянуть со стороны: оба рукастые, с непомерно широкими коричневыми кистями, чуть сутулые, с прямыми костистыми плечами, и казалось, что это разбухшие руки тянут вперед и не дают распрямиться.
Бросили на дно стружка берестяные пестери с подорожниками да кабаты, остались в легких набойных рубахах в синюю клетку. Немушко сел по-птичьи на заднюю скамейку и столкнул шестом лодку. Девки на круглых речных камнях лупили вальками белье, заткнув подолы сарафанов, и звонкие шлепки разносились далеко в прозрачном воздухе. Донька загляделся и внутренне подивился, как ладно и легко получается у них работа, и вдруг поймал себя на том, что внимательнее, чем обычно, смотрит на белые девичьи ноги. Тут одна портомойщица разогнулась и крикнула на всю реку: «Эй, Донька, рот-то открыл, поймашь ворону». – «Тоже мясо», – неловко отшутился парень и поспешил отвернуться от всеобщего рассмотрения.
А река, наполнившись водой, словно усмирила жажду и дышала ровно, тихо выплескиваясь на травянистые бережины; чайки успокоенно вскрикивали, насытившись рыбой, и только изредка, перестав опираться на воздух, падали плашмя в коричневую воду и прокалывали ее острогами клювов. День потускнел, посерели луга, тихие плесы нарумянились от молодой зари, и река стояла над головами живым серебряным столбом.
Деревня откачнулась, пропали амбары и овины; казалось, отделились и плыли в пустынном небе черные мельницы, и легко струилась под их клетями молодая трава. Потом и они отстали, самый берег обступили осины, дрожали оловянными листьями, в хвощах плескалась сорожья мелочь, и вода, наливаясь прозрачным светом, несла все медленнее черный стружок. Немушко толкался из-за плеча, порой взглядывал на Доньку серебристыми глазами, видел его припухшие нецелованные губы, редкий рыжеватый пух усов и чему-то улыбался понятливо сухими губами, но не отворяя рта. Донька ловил эти мягкие взгляды и тоже готовно улыбался, почти любя немого мужика с клочковатыми бровями и кривым ртом, и был даже рад, что он безголосый, и потому можно молчать и переживать что-то свое, непохожее на прежнее состояние. Донька не знал, что с ним, но душа у него трепетала и хотелось одинокой тишины. От этой грустной радости ему было хорошо, и обвалившись на переднем сиденье, парнишка пропустил ладонь в упругую воду и слушал, как бьются меж пальцев прохладные живые струи.
Но вот берега сошлись ближе, и правый, рудяной, обметанный зеленой щетиной сосняков, навис над левым, вода неожиданно потемнела и стала торопливо колотиться в скулы стружка; Немушке было трудно толкаться одному, и они пошли вверх уже в два шеста. И, потея с каждой верстой, Донька скоро забыл сладостное наваждение, но, неслышно для него, легкая радость словно бы из самой души проливалась в его распяленные на шесте руки и умножала их силу.
Донька вспомнил, что в этих местах он бывал еще с дядей Гришаней в эту же пору, когда береза оделась листом и на припеках уже надоедливо голосил овод-нуда. Помнится, они тогда тоже миновали хмурую ёру с длинными болотными травами и корявой мелкой березой; обошли и сырые рады – болотины, белые от морошечного цвета, и нашли сухие боровинки, где береза чиста телом, валили ее и снимали берестяные одежды – дупле на туеса и короба, драли шелковистое скользкое бересто и впрок – на лапти. Донька отыскал взглядом старое огнище, еще не поросшее травами, но Егор Немушко не остановился и здесь. Они свернули в боковую речку Нерюгу и толкались еще всю ночь, пока не зашли лодкой в такую тайболу, где вершины деревьев смыкались над самыми головами и глухари не боялись людей.
Здесь лес почти не знал топора и заслонял собою небо. Здесь и в самый жаркий день стояла прохлада, пахло прелью и грибницей; и только в крошечных распадках, поросших дурманным багульником, жили потайные коричневые ручейки, и если копнуть в мшистых берегах, то найдешь белый крупитчатый песок. Донька заметил, что Егоровы глаза потемнели и в них поселилась тревога, утиный нос подрагивал, зверино вынюхивая запахи, – и вскоре парнишка почувствовал, как и сам также подергивает носом и зорко осматривается. Тайга имела какую-то неодолимую власть, и в Донькиной душе с радостью поселилась та же тревога, которая владела и мастером. Немушко мычал, делал руками знаки, подзывал парня, показывал ему желтые иглы, стукал обушком топора по стволу огромной сосны, и дерево отзывалось глухо на этот удар. Немушко плевался, и Донька понимал, что дерево больное и дряблое и нет нужды копаться под ним.
Но порой дерево звенело, и мужик снимал мох лопатой, потом становился на колени и руками обнажал толстые родовые корни, которые питали ствол. Немушко радостно мычал, если находил два могучих черных корня; ведь от их сочной спелости зависела крепость карбаса иль парусной шняки, и Донька, невольно подчиняясь этой радости, тоже по-собачьи рылся в торфе и песке, нюхая прелые запахи влажной земли.
Неделю рубили они кокоры для средних, носовых и кормовых упругов, а потом, шалея от таежного гнуса, выволакивали их на речную бережину, где хватало солнца, чтобы коренья подвялились и утеряли каменную тяжесть...
Будто новым человеком вернулся Донька в деревню. Постоял на угоре, поджидая Егора Немушку, но тот возился у стружка и махнул рукой парню, мол, не жди, поди, но Донька еще потоптался на бережине, слушая босыми ногами ее прохладную ласковость. Сегодня берег пустел, только легкий ветер раскачивал на вешалах семужьи невода: бабы страдали на пожнях, мужики вели заделье во дворах, готовились к ночным ловам.
Еще помедлил Донька и, минуя церковь, вышел на площадь, выбитую лошадями и сейчас от жары звеневшую под ногами. У самого кабака малые ребята играли в «сухую треску». Когда-то всей ордой лупили, рвали волосы (такая уж это забава, казалось, от нее и поныне стонут Донькины волосы), но вот парельщик, начинавший игру, вырвался из сутолоки, поправляя ворот рубашки, и все разом откатились от мальчишки, настороженно замолкнув. Парельщик бросил к ногам изрядно измочаленную метелку, поддернул повыше порты, зыркая глазами, в кого бы пнуть березовым голиком и тем самым избавиться от битья. По большой редковолосой голове Донька узнал Клавдю Петрухича и окликнул его. Клавдя обернулся, пятнистые глаза были упрямы, под носом засохла кровь, ворот рубашки располосован до пупа, – видно, что мальца лупили без жалости.
– Поди прочь-ту, Ворзя, – огрызнулся Клавдя, скаля мелкие неровные зубы.
– Про Яшку-то слыхать чего, Петрухич? – снова спросил Донька, но Клавдя только нетерпеливо тряхнул покатым плечиком, топыря лобастую голову и выцеливая недруга.
Донька усмехнулся. Стыдно связываться с мальцом, заревет еще, побежит жаловаться матери, и, заворачивая за угол Петриной избы, Донька слышал, как вопила и стенала площадь.
Он шел и вспоминал Яшку: куда запропастился парень, что наделал с собой? Как сквозь землю провалился и в Няфту к тетке не приходил, не видали там Яшку. А Павла-то по Дорогой Горе бродит, глаза пустые, опомниться никак не может: в чужую избу войдет, видно, что-то спросить хочет, а сама как встанет под воронцом, молча и час и два выстоит, пока кто-нибудь не спросит: «Тебе что, Павла?» А баба только тяжко вздохнет и, опираясь на батог, пойдет прочь.
Ой, знать, не зря заходил тогда Яшка, смутный был, темный. Говорят, Петру Афанасьича до дикого состояния довел, едва мужик из тайги вышел, уж и рыбе не рад был. Хорошо морозы пали, и мокрый снег прихватил настом, а то бы пропадай заживо вместе с кобылой. А людям не жалится, смолчал: уж что там приключилось меж има, один Бог знает...
Отца Донька застал дома; он сидел не один, на печи лежал дядя Гришаня, а в красном углу гостила ядреная баба с мужичьими плечами, разодетая в малиновый сарафан и белую рубаху льняного полотна с расшитыми по подолу красными петухами. Баская у бабы Ульянки рубаха, потому и сарафан она заткнула за шерстяной пояс с золотыми кистями, чтобы покрасоваться узорчатым подолом. Калина сидел смущенный, часто оглаживал седую бороду и глаза не поднимал, изредка стучал по столешне сухими пальцами. Он невнимательно глянул на сына, видно, хотел что-то сказать, но баба Ульянка опередила мужика и зачастила:
– Отчаянный ты, – согласился Донька и склонился над утицей-солоницей, выбирая крючковатым резцом лишнее дерево. Яшка, уже раздражаясь, глядел на крестового брата... А как спешил к нему, немного и дома высидел, сразу сюда, думал, все расскажу Доньке, посмеемся, а после вместях и рванем из Дорогой Горы. Уж не стоит и начинать, вдруг решил, только зря время тянуть.
– Солонку с двумя утицами хочу сробить. Не знаю, правда, во што выльется. – Донька подвинул к себе поближе сальницы, льняной фитилек в глиняной плошке качнулся, затрещал. – Скорей бы Благовещенье, што ль, дак и свет бы загасили. Нонешней весной к Егорке Немушке в подмастерья иду.
Пригляделся внимательней к Яшке, увидел его черные щеки с водянистыми пузырями, злой опущенный рот и растерянные глаза.
– Ты чего букой-то?..
Но Яшка, отмалчиваясь, пошел к двери, устало ширкая катанцами, нагольная шуба еще с дедова плеча обремкалась по подолу, обвисла, как на пугале огородном. Что-то плохо гонит в рост Яшку Шумова.
– Чего мало сидел-то? – окликнул в спину Донька. – Посиди, дак вместях и поедим.
– В другой раз когда ли, – глухо отказался Яшка, побаиваясь остаться: вот засидится, разговорится с Донькой, и охота отпадет бежать.
... Уже завечерело, синей тихой мглой покрылись улицы. Мороз опал, и было уже терпимо идти с открытым лицом: не так ныли щеки. Мимо чикинской избы два раза кругом обежал Яшка, собаки знали его и ластились к ногам. На подворье было тихо, значит, Петра еще где-то в тайболе убивается и зять с обозом не вернулся.
Дома Яшка сказал матери, сильно жалея душой, готовый уткнуться в подол и зареветь:
– В Няфту с утра пойду к дединке[37 - Дединка – жена дяди.] Анне.
– И я с тобой, – заверещал Клавдя, но встал поодаль, уж больно скор на расправу Яшка.
– Соплюха еще...
– Какая дединка Анна, звала, што ли? Чего опять надумал? – всполошилась Павла, не зная уж с какого бока подступиться к сыну. Злой стал парнишка, словами говорит, а будто палкой стегает, и за волосье не надерешь, что ли сотворит с собой. Вот упырь растет.
– У дединки Анны ружье так же стоит, взаймы возьму полесовать, – городил Яшка, но все рядом с правдой, – ведь у тетки Анны от покойного мужика ружье пылится, про это и мать хорошо знает.
– Како тебе ружжо, еще застрельнешь себя, – запричитала Павла, все принимая за чистую монету.
– А это што тебе, баба-яга? – сбегал в сени, притащил и бросил перед матерью шкуры.
– И вправду, ой, золотко ты у меня, – встряхнула лису, та вспыхнула, огненно затрещала, потом накинула мех на плечо, приклонилась щекой, призакрыв глаза. – Исусе, благодать-то, бывало, и не перечтешь, братовья-то как нанесут из леса. И куничка тут. Ты, парень, не стащил где? – всмотрелась в Яшку, а у того смородиновые глаза сияют, как мокрые ягоды. Радостен парнишка, что угодил матери.
– Скажешь, как в лужу сядешь. Носи, матерь, на здоровье...
– И мине, и мине, – вертелся подле Клавдя, жадно тараща крапчатые глаза.
– Поди прочь-ту, Петрухич вонькой, – сказал почти ненавистно, сразу вспомнив Петру. Окинул взглядом избу, и все так показалось в ней родимым, что в горле защипало. И глухо, сдерживая слезу, добавил: – Поди, уродина.
– Ты хоть раз-то поласковей, Яшенька, – попросила Павла.
– Подите вы все в... Ненавижу... – вдруг в голос завыл Яшка, кинулся на полати, забился в старые окутки и затих.
– Сходи, сходи в Няфту, – стала уговаривать Павла. – Дединке Анне большой привет. Я тебе тут в пестерек соберу подорожничков.
Как стемнело, Яшка молча ушел, бродил по деревне; в самую полночь, проклиная скрипучий снег, тенью вырос у Петриного вонного амбара на высоких столбах. По лесенке подобрался к дверце, пробовал деревянным аншпугом сорвать замок, но тут всполошились собаки, заскрипели ворота, кто-то бежал на крыльцо, мигнул свет; Яшка прыгнул в снег и сугробами выбрел на угор, скатился вниз к реке, оттуда санной дорогой убежал домой.
А с первыми петухами был уже на ногах, быстренько собрался, мать суетилась подле в одной исподней юбке да в ватной душегрее, все наговаривала шепотом: не долго гостись да осторожней в дороге будь. А как прощались, может, в последний раз приклонился Яшка лбом к материному горячему плечу и, подавляя в себе жалость и слезы, даже позволил поцеловать себя. И сразу посуровел, оборвал жестко: «Ну, хватит мокрядь разводить. В гости, чай, еду, а не на каторгу». А Павла словно что слышала сердцем, подавляла в себе ноющую тоску, благословляла сына: «Осподи, дай Яшеньке шелковую уступчивую дорогу да оборони от злых татей, от лихих супостатов».
– Может, проводить тебя? – спохватилась, крикнула вдогон, живо накинула шубу, кинулась следом через темную поветь, выскочила на взвоз, а Яшки уж и нет нигде, словно провалился парень. Постояла, поохала, «быстро умелся, лешак», слышно было, как хлопнула щеколда, прошлепали валенки пустынной поветью, и только потом Яшка вылез из-под взвоза, отряхнулся от снега и потопал в Мезень.
Еще спала Дорогая Гора, будто вымерла в морозной сумеречности, ни одного огонька, ни одного светлого пятнышка, и даже колотушка караульщика не тревожила эти утренние часы. А внизу, у подножья деревеньки, куда хватал глаз, лежала беспросветная темь лесов да зыбь снегов, и только дальняя закраина неба тускло желтела, как шкура дворовой собаки. Именно там и лежала Мезень, где был однажды Яшка вместе с матерью и откуда идут обозы по всей Руси, и, говорят, даже на Питер... Вот и побежал Яшка, благослови его осподи, дай уступчивую дороженьку, побежал, как мечталось-мыслилось когда-то, словно решил уйти от судьбы своей иль найти ее в разбойной шайке, каких немало бродит ныне по темной матушке-Руси, а может, осесть в петербургском третьеразрядном трактиришке и заработать там золотую серьгу в ухо и посмертный сифилис от такой же безродной девки. Кто знает, кто знает...
До Мезени Яшка добрался на попутных, повезло парню, в городе покрутился день, назвался сиротой, притворно плакал, напросился в обоз до Архангельского, клятвенно заверяя, что тетка у него в Соломбале, вдова адмиралтейского плотника Коковкина. Но пустым не ринешься в дальнюю дорогу, и накануне, перед тем как пойти обозом, попал Яшка в дом купца Артемия Антипина (каким-то боком свояка, в тот приезд с матерью чаи у него пили с городскими калачами). Когда все спали в доме, забрался нижними воротами, откинув щеколду, поднялся во второе жило – в летние горницы – и взял из сундуков восемь аршин гранитура алого, два конца китайки черной замшевой, четырнадцать аршин пестряди синей да пять аршин тику волнистого красного, да полушубок суконный, серо-немецкий, совик, кафтан зеленого сукна, двух соболей, перчатки замшевые, шитые золотом, штаны плисовые да шапку бобровую мерлушчатую.
Смелость нашла на парня безрассудная, бродил по обеим горницам, как по своей избе, светил горящей лучиной, смотрелся в огромные зеркала в черной оправе, посидел на гнутых венских стульях, еще пошарил, не побоялся, за божницей и нашел там медных денег два рубля да один золотой. Нагрузился Яшка, теми же воротами вышел, а нести тяжело, запыхался, до верхнего конца Мезени поднялся, стороной миновал рогатку с караульщиком и мешок с добром в снег закопал, а взял с собой только то, что в пестерь влезло: два платка шелковых, совик белый, кафтан зеленого сукна, двух соболей и перчатки, шитые золотом. А утром сел в середину обоза на уголок саней с мерзлой навагой, надвинул на овчинный треух олений куколь краденого белого совика и задремал под накатистый скрип полозьев. Порой у горушек его окликивали возницы, Яшка торопливо спрыгивал и поднимался рядом с санями. В начале дороги было чуть грустно, а более всего страшновато от ожидаемой погони, потом пошли совсем чужие деревни; Яшка осмелел, на первом же постоялом дворе он стал как бы своим парнем, тоже соседился к чашке с тюрей из водки и ржаных крох, и даже пару раз потянулся к ней с ложкой и проглотил что-то противно-горькое, а потом лежал на полатях и сверху глазел на возчиков счастливыми осоловелыми глазами. И жизнь для Яшки виделась противу прежнего совсем иной и необыкновенной, и не хватало в ней только матери и приятеля Доньки...
Глава четвертая
И стал Донька Богошков у Егора Немушки подмастерьем. Калина подивился, откуда у сына старанье к топорной работе, потом вспомнил свою молодость и сказал: «Поди, воля твоя... У топора – не у моря, проживешь без горя».
И вот дней за десять до Аграфены-купальницы собрались они кокоры рубить. Решили подняться по Кулою верст на десять, а оттуда еще по Нерюге-речке обойти стороной широкие рады-болотины с чахлым ельником и попасть на горные боры. День стоял погожий, июньский, весна ожила, уже березы распушились листом и родился на солнечных приречных местах овод-нуда; мужики сушили на вешалах поплавни, латали в неводах прорехи; тут же дымились костры и по всей деревне наносило кипящей смолой и пареным вереском.
Когда солнце прошло через полудень и в реке стала заживать вода, когда смоленые челны качнула народившаяся волна, взяли пожитки и пошли красной арешниковой тропой вниз. Тут-то и обнаружил Донька с удивлением, что обогнал в длину Егора Немушку и уже сверху вниз с некоторым превосходством глянул на его рябоватое лицо, словно бы покрытое густой ржавчиной, на рыжие клочковатые брови и нос утушкой, политый крупными шадринами, на постоянную овчинную шапку с одним заткнутым ухом. Егор Немушко думал свою думу, жевал постные губы, шевелил сухими плечами и что-то гундосил под нос, но ступал мужик кривыми стоптанными ногами надежно, и подштанники вздувались над кожаными броднями белыми пузырями. Мужик и парнишка шли бок о бок и поразительно похожи были, если глянуть со стороны: оба рукастые, с непомерно широкими коричневыми кистями, чуть сутулые, с прямыми костистыми плечами, и казалось, что это разбухшие руки тянут вперед и не дают распрямиться.
Бросили на дно стружка берестяные пестери с подорожниками да кабаты, остались в легких набойных рубахах в синюю клетку. Немушко сел по-птичьи на заднюю скамейку и столкнул шестом лодку. Девки на круглых речных камнях лупили вальками белье, заткнув подолы сарафанов, и звонкие шлепки разносились далеко в прозрачном воздухе. Донька загляделся и внутренне подивился, как ладно и легко получается у них работа, и вдруг поймал себя на том, что внимательнее, чем обычно, смотрит на белые девичьи ноги. Тут одна портомойщица разогнулась и крикнула на всю реку: «Эй, Донька, рот-то открыл, поймашь ворону». – «Тоже мясо», – неловко отшутился парень и поспешил отвернуться от всеобщего рассмотрения.
А река, наполнившись водой, словно усмирила жажду и дышала ровно, тихо выплескиваясь на травянистые бережины; чайки успокоенно вскрикивали, насытившись рыбой, и только изредка, перестав опираться на воздух, падали плашмя в коричневую воду и прокалывали ее острогами клювов. День потускнел, посерели луга, тихие плесы нарумянились от молодой зари, и река стояла над головами живым серебряным столбом.
Деревня откачнулась, пропали амбары и овины; казалось, отделились и плыли в пустынном небе черные мельницы, и легко струилась под их клетями молодая трава. Потом и они отстали, самый берег обступили осины, дрожали оловянными листьями, в хвощах плескалась сорожья мелочь, и вода, наливаясь прозрачным светом, несла все медленнее черный стружок. Немушко толкался из-за плеча, порой взглядывал на Доньку серебристыми глазами, видел его припухшие нецелованные губы, редкий рыжеватый пух усов и чему-то улыбался понятливо сухими губами, но не отворяя рта. Донька ловил эти мягкие взгляды и тоже готовно улыбался, почти любя немого мужика с клочковатыми бровями и кривым ртом, и был даже рад, что он безголосый, и потому можно молчать и переживать что-то свое, непохожее на прежнее состояние. Донька не знал, что с ним, но душа у него трепетала и хотелось одинокой тишины. От этой грустной радости ему было хорошо, и обвалившись на переднем сиденье, парнишка пропустил ладонь в упругую воду и слушал, как бьются меж пальцев прохладные живые струи.
Но вот берега сошлись ближе, и правый, рудяной, обметанный зеленой щетиной сосняков, навис над левым, вода неожиданно потемнела и стала торопливо колотиться в скулы стружка; Немушке было трудно толкаться одному, и они пошли вверх уже в два шеста. И, потея с каждой верстой, Донька скоро забыл сладостное наваждение, но, неслышно для него, легкая радость словно бы из самой души проливалась в его распяленные на шесте руки и умножала их силу.
Донька вспомнил, что в этих местах он бывал еще с дядей Гришаней в эту же пору, когда береза оделась листом и на припеках уже надоедливо голосил овод-нуда. Помнится, они тогда тоже миновали хмурую ёру с длинными болотными травами и корявой мелкой березой; обошли и сырые рады – болотины, белые от морошечного цвета, и нашли сухие боровинки, где береза чиста телом, валили ее и снимали берестяные одежды – дупле на туеса и короба, драли шелковистое скользкое бересто и впрок – на лапти. Донька отыскал взглядом старое огнище, еще не поросшее травами, но Егор Немушко не остановился и здесь. Они свернули в боковую речку Нерюгу и толкались еще всю ночь, пока не зашли лодкой в такую тайболу, где вершины деревьев смыкались над самыми головами и глухари не боялись людей.
Здесь лес почти не знал топора и заслонял собою небо. Здесь и в самый жаркий день стояла прохлада, пахло прелью и грибницей; и только в крошечных распадках, поросших дурманным багульником, жили потайные коричневые ручейки, и если копнуть в мшистых берегах, то найдешь белый крупитчатый песок. Донька заметил, что Егоровы глаза потемнели и в них поселилась тревога, утиный нос подрагивал, зверино вынюхивая запахи, – и вскоре парнишка почувствовал, как и сам также подергивает носом и зорко осматривается. Тайга имела какую-то неодолимую власть, и в Донькиной душе с радостью поселилась та же тревога, которая владела и мастером. Немушко мычал, делал руками знаки, подзывал парня, показывал ему желтые иглы, стукал обушком топора по стволу огромной сосны, и дерево отзывалось глухо на этот удар. Немушко плевался, и Донька понимал, что дерево больное и дряблое и нет нужды копаться под ним.
Но порой дерево звенело, и мужик снимал мох лопатой, потом становился на колени и руками обнажал толстые родовые корни, которые питали ствол. Немушко радостно мычал, если находил два могучих черных корня; ведь от их сочной спелости зависела крепость карбаса иль парусной шняки, и Донька, невольно подчиняясь этой радости, тоже по-собачьи рылся в торфе и песке, нюхая прелые запахи влажной земли.
Неделю рубили они кокоры для средних, носовых и кормовых упругов, а потом, шалея от таежного гнуса, выволакивали их на речную бережину, где хватало солнца, чтобы коренья подвялились и утеряли каменную тяжесть...
Будто новым человеком вернулся Донька в деревню. Постоял на угоре, поджидая Егора Немушку, но тот возился у стружка и махнул рукой парню, мол, не жди, поди, но Донька еще потоптался на бережине, слушая босыми ногами ее прохладную ласковость. Сегодня берег пустел, только легкий ветер раскачивал на вешалах семужьи невода: бабы страдали на пожнях, мужики вели заделье во дворах, готовились к ночным ловам.
Еще помедлил Донька и, минуя церковь, вышел на площадь, выбитую лошадями и сейчас от жары звеневшую под ногами. У самого кабака малые ребята играли в «сухую треску». Когда-то всей ордой лупили, рвали волосы (такая уж это забава, казалось, от нее и поныне стонут Донькины волосы), но вот парельщик, начинавший игру, вырвался из сутолоки, поправляя ворот рубашки, и все разом откатились от мальчишки, настороженно замолкнув. Парельщик бросил к ногам изрядно измочаленную метелку, поддернул повыше порты, зыркая глазами, в кого бы пнуть березовым голиком и тем самым избавиться от битья. По большой редковолосой голове Донька узнал Клавдю Петрухича и окликнул его. Клавдя обернулся, пятнистые глаза были упрямы, под носом засохла кровь, ворот рубашки располосован до пупа, – видно, что мальца лупили без жалости.
– Поди прочь-ту, Ворзя, – огрызнулся Клавдя, скаля мелкие неровные зубы.
– Про Яшку-то слыхать чего, Петрухич? – снова спросил Донька, но Клавдя только нетерпеливо тряхнул покатым плечиком, топыря лобастую голову и выцеливая недруга.
Донька усмехнулся. Стыдно связываться с мальцом, заревет еще, побежит жаловаться матери, и, заворачивая за угол Петриной избы, Донька слышал, как вопила и стенала площадь.
Он шел и вспоминал Яшку: куда запропастился парень, что наделал с собой? Как сквозь землю провалился и в Няфту к тетке не приходил, не видали там Яшку. А Павла-то по Дорогой Горе бродит, глаза пустые, опомниться никак не может: в чужую избу войдет, видно, что-то спросить хочет, а сама как встанет под воронцом, молча и час и два выстоит, пока кто-нибудь не спросит: «Тебе что, Павла?» А баба только тяжко вздохнет и, опираясь на батог, пойдет прочь.
Ой, знать, не зря заходил тогда Яшка, смутный был, темный. Говорят, Петру Афанасьича до дикого состояния довел, едва мужик из тайги вышел, уж и рыбе не рад был. Хорошо морозы пали, и мокрый снег прихватил настом, а то бы пропадай заживо вместе с кобылой. А людям не жалится, смолчал: уж что там приключилось меж има, один Бог знает...
Отца Донька застал дома; он сидел не один, на печи лежал дядя Гришаня, а в красном углу гостила ядреная баба с мужичьими плечами, разодетая в малиновый сарафан и белую рубаху льняного полотна с расшитыми по подолу красными петухами. Баская у бабы Ульянки рубаха, потому и сарафан она заткнула за шерстяной пояс с золотыми кистями, чтобы покрасоваться узорчатым подолом. Калина сидел смущенный, часто оглаживал седую бороду и глаза не поднимал, изредка стучал по столешне сухими пальцами. Он невнимательно глянул на сына, видно, хотел что-то сказать, но баба Ульянка опередила мужика и зачастила: