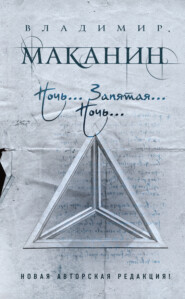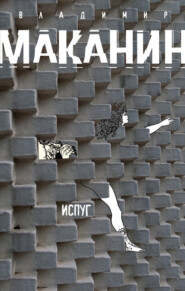По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
На первом дыхании (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Дорога как дорога.
И тогда она обиделась. Повернулась и пошла к себе за прилавок. Но я схватил ее за руку, успел схватить. Я как бы опомнился. Никто не жалел меня больше, чем она. Добрее и лучше ее никого не было.
– У меня на душе погано, – сказал я, пряча глаза.
Она молчала. И потихоньку высвобождала руку. А я держал ее за запястье, как клещами.
– Я тебе напишу, Зина. Обязательно.
Она молчала.
– Я тебе напишу.
– Честное слово?
– Да.
И поверила. В ту же секунду, как только я произнес «честное слово», она поверила. Такой человек. Так дышит.
Зина улыбнулась:
– Умница!..
Тут же придвинулась вплотную и чмокнула меня в щеку. Я поклялся писать, и, значит, мы друзья. Так она это поняла. И попыталась взять меня под уздцы, немедленно и как можно жестче. Настоящая женщина. Она сказала, что я не умею прощаться. Что я нечуткий.
А через минуту-две она уже покрикивала:
– Ну, где тебе собраться одному?! Ты же ничего не умеешь.
– Потише, Зина.
– Во-первых, носки с дырками…
– Тише.
– Ты же сопляк! – кричала она чуть ли не на всю булочную-кондитерскую. – И притом неблагодарный сопляк. Продукты я куплю тебе сама. В продуктах ты ничего не смыслишь.
– Зина…
– Не спорь со мной!
Она оглянулась.
– Подожди минутку, – сказала она. – Я отпущу вот этих двоих.
Она двинулась за прилавок, а я тут же дал деру.
Тут было еще одно. Она ведь обязательно будет расспрашивать меня о Гальке. И выудит все до последнего слова. Она такая. Мастачка жалеть и сочувствовать. Доброе и по-своему великое сердце. Я могу сейчас спокойно удрать и явиться к ней через пять, например, лет. И вновь уйти. И она не обидится. И, брошенная, все простит. Ей не в первый раз. И не в последний.
Неожиданно я увидел ее опять. Я стоял на автобусной остановке, а она, оставившая прилавок, мчалась ко мне и за квартал кричала:
– Олег!.. Олег!
Ее руки были загружены кульками и свертками, назначенными мне в дорогу. А женская заботливость подхлестывала ее так, что она летела как пуля. Расстояние сокращалось на глазах. И самую чуть ей не подфартило. Автобус подошел, а ей было мчаться еще метров пятьдесят.
Я впрыгнул и укатил. Не выношу сочувствия. Тем более искреннего. Не мог я тогда вынести ее сочувствия – и хватит об этом.
* * *
Я поехал к Бученкову – он только что приплелся с работы, был вял и на мир смотрел кисло.
Мы поужинали. Мы наметили, что будем нынче смотреть хоккей. Мы были вдвоем в тихой квартире, и впереди целый вечер. Телевизор, тишина, и нет тещи – разве не чудо?.. Я заварил чай. Бученков, как всегда, когда не было близко тещи, говорил о нашей дружбе. И вот мы пили крепкий чай и смотрели по телевизору что-то предхоккейное.
– А как же Галька? – вдруг спросил он. – Ты на самолет, а она?
Я уж думал, обойдется – думал, что улечу без разговоров.
– Вот это работенка! – сказал я о хоккеисте, который на разминке вдруг швырнул шайбу через весь телеэкран.
– А как Галька?.. Чего ты молчишь?
И тогда я рассказал. Пришлось. Бученков спросил:
– А что дальше? Галька выйдет замуж за этого усатого хирурга?
– Видимо, да, – сказал я как можно небрежнее.
– Не понимаю.
– Чего ты не понимаешь?
– Бился за нее, бился. И вдруг – смываешься.
Я объяснил. Была замужем, жила с Еремеевым – это все ошибки и мелочи, это не препятствие. Во всяком случае, для меня это не смертельно. А теперь она любит, и это совсем другое дело. Это как под поезд попасть. И теперь делать мне здесь нечего.
Мои слова были толковы и точны. И смысл был. И логика. Все было, правды не было. Потому что на самом-то деле я о Гальке пока не думал. Ни разу еще не подумал с тех пор, как увидел ее и рядом с ней усача хирурга в окружении воркующих теток. Я откладывал на после. Откладывал и откладывал.
– А как Еремеев? Муж ее?
– Молчит.
– Мучается? – интересовался Бученков подробностями.
– Наверняка. Я видел – сидит и без передышки в подкидного режется.
– И ничего не предпринимает?
– А что тут предпринять можно? Он ведь тоже как под поезд попал… Чаю еще заварить?