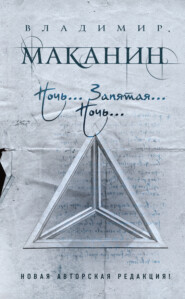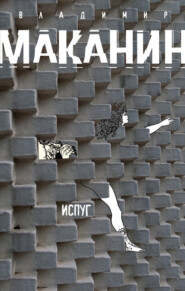По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
На первом дыхании (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я ведь лежу. А то бы я сама тебя угостила.
Я сказал, что да, да, хотя ни пить, ни есть мне совершенно не хотелось. Я уже чувствовал, что я как бы не туда попавший. Все было как-то странно. Я чего-то не понимал, что понимали другие. Они знали, а я нет.
– Иди, Олежка, – сказала она.
– Ага.
И я двинулся на кухню. Там был конвейер еды и выпивки. В ожидании большого стола люди заходили, подкреплялись и уходили. Две толстые тетки тут же набросились на меня и стали кормить. Не отпускали.
– Вы приятель Гали? Или ее мужа? – Первое, что они спросили.
– Гали.
– Ну и как вы думаете, чем все это кончится?
В таких случаях я отвечаю очень четко:
– Я думаю, что все будет хорошо.
Вошла еще тетка. Теперь их было три. Три ведьмы. Три вещуньи. А если проще, то три пожилые женщины, которые варили, жарили и между делом загадывали на будущее.
Тетка, что вошла, сказала:
– Боже ты мой! Неужели же будут разводиться? (Судя по интонации, тетка была со стороны Еремеева.)
– А что ж. У молодых это сейчас просто. Сегодня женятся, завтра разводятся, – будто бы с осуждением, а на самом деле с чем-то затаенно-приемлющим сказала другая тетка (тетка со стороны Гальки).
– Наше дело сторона, – сказала третья тетка (нейтральная).
– Верно. Сейчас празднуем ее здоровье, а если пригласят – и на новую свадьбу придем, – откликнулась тут же вторая (тетка со стороны Гальки).
Она же:
– Наше дело стряпать. И не вмешиваться.
– Но поговорить-то имеем право!
– А о чем тут говорить?
Чувствовалось, что они изо всех сил сдерживаются, так как Галька слаба и совсем рядом. И если б не ее болезнь, здесь был бы грандиозный скандал.
Я около получаса слушал их недомолвки и вкрадчивый треп. Я еле жевал, медленно-медленно, чтоб тянуть время и слушать. И наконец все услышал и все узнал. Оказывается, Галька влюбилась. Ну да, в больнице, когда, казалось бы, ей было совсем не до этого. Она влюбилась в хирурга, который делал ей операцию. В усача. Его звали Анатолием. И будто бы уже вся больница об этом знала и говорила, что какая это необыкновенная, и большая, и серьезная любовь. То есть он тоже ее любил.
Дело было давнее, и только я один был в полном неведении. Был дурак дураком.
Я вернулся в комнату, где Галька.
Там тянулся нескончаемый общий разговор о бычках в томате, о наконец-то крепкой зиме, о многосерийном фильме. Галька улыбалась и время от времени поглядывала на хирурга (он уже пришел). Усач очень скромно сидел в двух шагах от нее. Он чувствовал себя немного не в своей тарелке. Но сидел. Выложил свои талантливые руки на колени. А вокруг шумели малознакомые ему люди, и в углу с кем-то из родичей играл в подкидного Еремеев.
Иногда Галька втягивала хирурга в разговор. И глаза сияли. Дескать, бояться тут некого, милый. И совсем не надо робеть, милый. Я тобой восхищаюсь, милый. И пусть, милый, все это видят и знают… И усач оживлялся. Отвечал на вопросы. Пояснял. Да, воспалительный процесс окончательно остановлен. Да, повезло. Да, стабилизация полная.
На кухне тоже не умолкали:
– Говорят, ему сейчас не до любви – диссертацию защищает. (Это о нем, о хирурге.)
– И называет она его как-то смешно – Анатоль. Если Анатолий – я знаю. А что за Анатоль? (Это говорили тетки, те, которые Галькины. Когда они сталкивались с тетками Еремеева, то делали вид, что Галька царевна – кого выбрала, с тем и будет, и не надо мешать. Но меж собой они Гальку осуждали.)
* * *
Я ушел, уже не мог их слушать. Мне нужен был воздух. И высокое небо. И необъятная даль.
Ничего этого, конечно, не было. Просто сыпал снег – мелкий и довольно занудливый.
* * *
Ноги привели меня сами. Будто это они, ноги, думали свою долгую думу и наконец надумали, пока я шел и морщился от мелкого снега.
Я вошел – он сидел ничуть не изменившийся, как всегда, большеголовый и, как всегда, коротенький. Коротышка с золотыми зубами. Представитель фирмы. Я вошел и с ходу выложил, что я возвращаюсь к Громышеву.
– Решил?
– Образумился.
Он подумал и сказал:
– Это замечательно… Алексей Иваныч будет рад.
А сам глядел как-то необычно. Что-то такое таил.
– Билет хотелось бы на завтра же, – сказал я. – Достанете?
– Достанем, Олег. Будь спокоен.
И он вдруг сказал фальцетом. Пустил петуха:
– Горчаков умирает.
Встал и потащился к окну. Хотел, чтоб я не видел его лицо.
Затем (он стоял у окна, не оборачиваясь: он нащупал пальцем край стола, где была вмонтирована кнопка) вызвал секретаршу. Она сделала отметки в моих бумагах. Заказала билет на завтра. Улыбнулась мне. И ушла. Секретарша была что надо. Новенькая.
Тощий представитель умирал. Мы пришли к нему домой. Он лежал, запрокинув голову к потолку и выпростав руки из-под одеяла. Ухаживала за ним какая-то заплаканная женщина.
– Олег! – Он весь просиял, будто это пришел не я, а бог знает кто.
У него были голубые глаза. А лицо черное.
Большеголовый сказал: