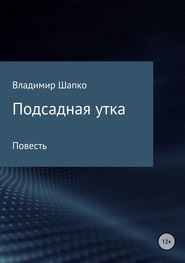По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Синдром веселья Плуготаренко
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Сегодня видела ещё одну твою невесту – Хрусталёву. Отсидела. Вернулась, стервозка. – Вдруг начала смеяться: – Баннова уже плещет по городу, что весь ваш Актив разбежался. Галька гоняет. Ни один на работу не ходит. Даже сам Проков у кого-то на даче прячется. У себя дома все ставни закрыл – боится, что Галька стёкла повышибет. Хих-хих-хих! И смех, и грех! И где вы теперь будете прятаться от неё? Хих-хих-хих!
Сын покраснел. Разом вспомнил всё. Методично мотающуюся головёнку у себя в паху. Себя самого – размахивающего руками, закидывающего голову, пропадающего.
Нормально у него в первый раз не получилось. Она лихо запрыгнула к нему на коляску, мгновенно соорудила из себя, инвалида и коляски совершенно новую функциональную камасутру. Она ёрзала по вялому его достоинству и, казалось, от этого ловила ещё больший кайф. Не ухватись Плуготаренко за стол – в конце она бы точно опрокинулась назад со всем сооружением.
А уж потом, после небольшой передышки, и замоталась крашенная головёнка. Замоталась как чёрненький прах.
Мать пришла уже перед уходом её (головёнки) и ничего вроде бы не заметила.
Приходила Хрусталёва ещё несколько раз. Плуготаренко попривык к ней, у него стало получаться. Готовился к её приходу, прибирался в квартире. Сделал даже удачную, на его взгляд, одну чёрно-белую фотографию. На ней Галя, обнажённой, сидела в его коляске. Свет от окна падал так, что почти вся она скрылась в тени. Слегка высвечена была только правая грудь её. Грудь красивая. Прямо-таки грудь Мадонны, уже высвобожденная младенцу. Хотел даже преподнести фотографию ей. Но когда она смылась с деньгами инвалидов, снимок порвал. «Мадонна чёртова!»
Проков после своего позора на суде пришёл с поллитрой. Уже хорошо поддатым. На кухне стукал стаканом в стакан друга, заглатывал водку, жаловался, что жена Валентина грозится теперь разводом. Сын Женька тоже смотрит волчонком. Что делать, Юра? Покачивался, мучился, удерживал чёрную протезную руку словно больную судьбину.
Плуготаренко утешал, поддакивал. Но когда Проков, всё кляня себя за то, что поддался когда-то Хрусталёвой, начал доносить подробности своих свиданий с ней, Юрий сразу увёл глаза. Почувствовал себя каким-то двойным агентом. Внедрённым агентом. Не разоблаченным ещё, но всё равно двуличным. Подлым.
Пришла с работы мать, и пьяный Проков начал было опять про роковую ошибку свою с Хрусталёвой, через слово трындя «Вера Николаевна! Вера Николаевна! Послушайте!» Однако та прервала его:
– Да она даже к Юре подкатывалась! Коля! К Юре! Да я пришла, помешала, не дала ей.
Проков вскочил, затряс руку друга:
– Спасибо, Юра. Спасибо!
И под внимательным взглядом матери Юрий, встряхиваемый Проковым, опять увёл глаза в сторону: «Да ладно, чего уж, бывает». Дескать, устоял он тогда, не поддался.
Мать хмурилась, чувствовала что-то, поджимала и без того поджатый птичий рот.
Главное, что Плуготаренко понял тогда после Хрусталёвой, – он сможет жить с женщиной. Как мужчина. Однако мать, по всему было видно, сильно сомневалась, что парализованный сын годится для таких дел. Больше ехидничала. Всё время проходилась даже по фотографиям, снятым сыном. И Собачьей Мамы, и особенно фотографиям Ивашовой. Не раз специально торчала дома, когда Наталья приносила пособие. Хотела защитить его от неё как-то. Или, на худой конец, хотя бы отвлечь.
Верила она только в одну невесту для сына, которая сможет помочь ему. В Юлию Зимину. И то потому, что та стала врачом. Мать надеялась: есть какие-то средства и Юлька поможет, вылечит. И всё будет хорошо: у них дети будут, а у неё внуки.
Когда смотрели какой-нибудь фильм по телевизору, нередко в сладких его местах, где герой классически загибал невесту в поцелуе, или того больше – при сценах постельных – она непроизвольно поворачивалась к сыну, по-видимому, терзаясь – сможет он так или нет. И ответа не находила.
Перед уходом в свой горсовет она опять завела о телефоне. Чтобы ехал к Прокову, просил, требовал, добивался.
– Ну сколько можно воду в ступе толочь, мама? Не надоело?
Нет, Вере Николаевне не надоело. Она хотела, чтобы положенные льготы сын получил сполна. Хотела телефон, машину. Хотя бы такую, как у Громышева. Машинёшку. С ручным управлением. Чтобы сын свободно гонял по городу, трещал, завивал за собой дым. Ну и она иногда рядом с ним
Ушла, наконец. Плуготаренко сам стал одеваться. Чтобы поехать не в Общество, куда гнала мать, а к Сатказину и Адамову. В парк.
В дверь позвонили. Зоя Мякишева. Дворничиха. За руку с сыном Колькой. Всё таким же. С большой головой. В пожизненных своих колготках. Правда, сегодня без писюна наружу. Дырку заштопали.
– Юрий Иванович, выручайте! Не с кем оставить Кольку. Часа на четыре. Пусть побудет с вами. А?
Слишком много Колек вообще-то. Кобрин Колька. Проков Колька. Этот вот тоже Колька. Притом Колька-путешественник. Недавно еле нашли его на Холмах. Присев, разглядывал как мину морскую, вымя у чьей-то дойной козы.
Плуготаренко отъехал: заходи! Бродяга пяти лет радостно забежал.
Минут через десять уже гнали по Лермонтова в парк. Колька сидел на коленях у инвалида, дёргал с ним рычаги, трещал, брызгался слюнями.
В парке гигантский неустойчивый человек из латекса, нагнетаемый воздухом, ломал свои ноги и руки на глазах у публики. Колька побаивался неустойчивого человека. Колька ходил вокруг недвижной карусели, как вокруг поникшей цыганской пляски. Не узнавая её. Плуготаренко неподалёку разговаривал с Адамовым и Сатказиным.
Зарегистрированная фирма «АДАМОВ И САТКАЗИН ФОТОГРАФИЯ И ЖИВОПИСЬ» прописалась в парке давно. Длинный тощий Сатказин споро рисовал карандашом портреты самодовольных горожан и кокетливых горожанок, выхватывая их прямо из идущего потока и усаживая на брезентовый стульчик. Широкозадый, с маленькой головкой Адамов ходил по кустам вроде сутулого контрабаса, на который навесили фотоаппарат. Он пристраивал к кустам небольшие группки туристов, чтобы снять их художественно.
Прошлым летом на своей территории они неожиданно увидели инвалида с фотоаппаратом. Гоняющего на коляске и снимающего всё подряд. И людей, и всю природу вокруг. Они подбежали к нему с гневными кулаками. Но, как быстро выяснили, инвалид оказался неопасным: снимал всё только для себя, для забавы.
Сегодня инвалид показывал коллегам заедающий в фотоаппарате затвор. Свою беду. Случившуюся утром. Сатказин и Адамов тут же склонились над поломкой. И отвёрточка откуда-то взялась. И даже лупа.
Минут через пять, приняв от них камеру, Плуготаренко два раза проверочно сфотографировал парковый иссохший фонтан. «Окончательно проигравшаяся рулетка, – подмигнул умельцам, – А?»
Деньги за работу протянул им с благодарностью. «Да ты что, Юра!» – с возмущением попятились те.
Тогда пожал им руки, возле киоска напоил Кольку фантой и погнал с ним домой.
Уже на Лермонтова неожиданно увидел Ивашову. Наталью Фёдоровну! Тут же догнал.
Смеялся, как всегда беспрерывно говорил.
Однако Наталья мало понимала его. Наталья во все глаза смотрела на Кольку в его руках, забыв даже поздороваться. Смотрела, как на его сына. Как на какого-то маленького кенгурёнка, который выглядывает из материнской сумки. Который сердито брызжется сейчас слюнями, не выключает «мотор», недовольный, что из-за неё прервалось движение их автомобиля.
– Завтра 23-е, Наталья Фёдоровна! – прощаясь, напомнил радостный инвалид. – Жду вас!
И коляска покатила дальше. Инвалид и мальчишка опять заработали руками слаженно. Как какой-то двойной тянитолкай!
7
В квартире Семибратовой всё так же едко пахло корвалолом. Старуха цепко пересчитывала деньги. Вдруг остановилась, прерывисто вдохнула и повалилась на пол. Вперёд лицом, взмахнув рукой с деньгами.
Ивашова – неудавшаяся студентка медучилища – в испуге отшатнулась. Тут же кинулась, стала поднимать. Тощая старуха оказалась просто неподъёмной. Будто куча железа. Кое-как завалила её на диван. «Спасибо, милая, спасибо, – уже шептала Семибратова. – Нитроглицерин там. На буфете». Наталья начала быстро перебирать целую аптеку пузырьков и таблеток на столешнице буфета, роняя их на пол. Нашла, наконец, крохотный пузырёк. Таблетку кинула в раскрывшийся рот – испуганно. Будто в серый кошель. Старуха загнала таблетку под язык.
Точно листья после порыва ветра, везде валялись разлетевшиеся деньги. Наталья принялась ползать, собирать. Семибратова, казалось, не смотрела на неё, лежала лицом вверх. Однако спросила: «Сколько там насчитала, дочка?» Наталья сказала, вложила деньги старухе в руку. Та сразу прижала их к бедру.
Потом от соседей вызывала «скорую», ждала её. Примчался на машине испуганный сын. За ним сразу «скорая». Старухе сделали два укола, и она забылась. «Гипертонический криз» – сказал тяжёлый фельдшер в белом, больше смахивающий на мясника с рынка. Все, кроме сына, пошли из корвалольной квартиры. Семибратова осталась лежать с раскрытым, торопливо дышащим ртом.
Наталья сидела на скамейке возле дома, приходила в себя. Неудавшаяся медичка, она недолго проучилась в медучилище. Её привела и заставила поступить в него Таня Зуева, подруга, сама уже закончившая его.
В анатомичке Наталья два раза упала в обморок. Там же, в приёмной анатомички, её однажды после занятий попытался изнасиловать преподаватель Малышев. Он удерживал её на единственном анатомическом столе приёмной как не дающуюся, всю в слезах белугу и приговаривал: «Ну же, ну же, Ивашова, не брыкайся! не плачь, дело житейское! ну же!» Когда ему показалось, что девушка укрощена и можно приступать, толстуха вдруг взбрыкнула так, что он отлетел к двери, упал там и сломал руку. Об этом Наталья не рассказала никому. Даже Тане. Чтобы не видеть каждый день трусящую мордочку Малышева, его загипсованную руку, сама забрала в учебной части документы. Тане же сказала, что не может делать уколы. На практике. Что не её это. Впрочем, так оно и было. Руки её тряслись. Старушечьи серенькие попки казались ей убитыми черепахами – она боялась обломать о них иглу. В общем, ушла.
Время подходило к шести. Наталья успела выдать деньги и медлительному персональному пенсионеру в сталинской квартире, и старичку на четвёртом этаже, опять предложившему ей стать его прачкой. Ровно в шесть принесла сумочку с остатками денег и ведомостью, сдала всё в кассу под расписку. Вахрушева хмурилась, чем-то недовольная. Врубила звонок только в семь.
Дома после скромного ужина – стакана кефира и печенья (хватит обжираться) – Наталья привычно включила телевизор.
Шла передача о загнивающем Западе, об акулах империализма. Постоянный ведущий, невысокий, в очках, несмотря на то, что беспрерывно говорил, стоять на месте не мог. В брючках в обтяжечку, всё время переминался с ноги на ногу. Вроде сексуального таракана, готовящегося к случке. Иллюстрацией к его словам сразу же был дан сюжет о спорте и развлечениях на Западе. Две команды инвалидов-колясочников выезжали одновременно на площадку Дворца спорта, чтобы начать гандбольный матч. С идущими рядом тренерами двигались вроде псов на поводках на выставке собак. Ушастый, как гоблин, духовой оркестр гремел. Девки слаженно, дружно прыгали с бумажными букетами на руках. Болельщики неистовствовали. Наталья с интересом ждала. Но когда начался как с цепи сорвавшийся хаос на площадке, когда начали носиться, сшибаться, падать коляски – кинулась, выключила телевизор. Как придавила всё. Словно чтобы Плуготаренко-инвалид не увидел.
Под светом торшера пыталась осилить «Ювенильное море». Медленно, по два, по три раза перечитывала некоторые предложения. Некрикливая, словно бы даже стесняющаяся самоё себя графомания автора поражала. Но и завораживала, держала за уши…
Девчонкой Наталья очень любила уроки литературы в новоявленской школе-десятилетке. Не блистала она там ни в математике, ни в физике, ни в химии, ни даже на уроках физкультуры во дворе. Зато уж уроки литературы и русского языка – были её. И у Галины Семёновны в младших классах, и у Лидии Павловны потом в старших получала только пятёрки.