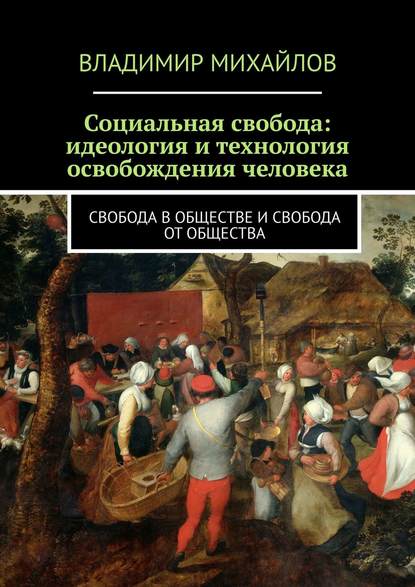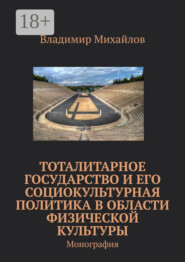По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Социальная свобода: идеология и технология освобождения человека. Свобода в обществе и свобода от общества
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Глава 1. Структура социальных ограничений
Структурные компоненты системы социальных ограничений являются формами проявления системообразующего фактора социальных ограничений – воли общества к самосохранению и самоутверждению на разных уровнях культуры.
Главным, с содержательной точки зрения, атрибутом системы социальных ограничений является концепция реализуемого этим обществом социокультурного проекта, содержащая его главные ценностно-целевые установки и константы, в особенностях которых концепция и находит своё выражение. Концепция имеет статико-метафизический характер, т.к. в случае её изменения социокультурный проект не будет реализован. Уровень концептуальных социальных ограничений является высшим и одновременно наиболее скрытым уровнем социальных ограничений. Многие мыслители предпринимали попытки выявления концептуальных основ различных цивилизаций. Например, И. Л. Солоневич попытался выявить эти основы у России, а так как выявленное им показывало преимущество русской цивилизации над западной и многими другими, то его работы стали замалчиваться. Сходные попытки выявления «русской идеи» как цивилизационной концепции предприняли Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, А. С. Хомяков и другие авторы[21 - Наш Путь. Стратегические перспективы развития России в ХХI веке. – М.: Арктогея-центр, 1999. – 144с., Чубайс И. Б. Идейно-идентификационная основа российского общества и государства: Автореф. Дисс. д-ра филос. наук. – Ростов /Дон, 2000 – 42с.]. В настоящее время актуальным является выявление концепции Западной цивилизации, принудительно навязывающей свою систему социальных ограничений всему миру. Интересные материалы об этом содержатся в работе А. Шлезингера[22 - Шлезингер А. М. -мл. Циклы американской истории. – М.: Прогресс, 1992. – 688с.], обсуждающего достоинства и недостатки проекта «Цивилизации США». Более свежий материал по теме можно найти в книгах А. Ачлея «Битва глобальных проектов»[23 - Ачлей А. Битва глобальных проектов: В 3 ч. – М.: Волант, 2011.]. В качестве примеров существования подобных концепций можно привести различные религии, в которых эти концепции содержатся имплицитно, поэтому их выявление требует аналитико-синтетической и герменевтической работы. Такие различные концепции жизнеустройства можно вычленить в Ветхом и Новом Заветах Библии, в Коране, Законах Ману, священных текстах других религий.
В качестве примера попытки вычленения подобной концепции можно привести монографию В. Г. Тахтамышева «Библейская идеология: образ и реальность мира». «Завершение формирования корпуса священного текста свидетельствовало о том, что локальная цивилизация завершила процесс своего осознания и дальнейший процесс состоит в полном проникновении учения в общественную реальность»[24 - 385. Тахтамышев В. Г. Библейская идеология: образ и реальность мира. – Ростов/Дон: ИРУ, 2000. – С.33.], – писал В. Г. Тахтамышев. Конечно, эта концепция не обязательно носит религиозный характер. Так, библейский текст «своё содержание… выражает в религиозной форме. Хотя эта форма и противостоит религиозному догматизму, всё же последний примиряется с ней и признаёт её в качестве своей. Будучи признанной религиозным сознанием и оказывая разрушающее воздействие на него (которое последним часто не осознаётся), Библия является уникальным средством управления религиозным сознанием и удержания его в позитивных для общественного целого рамках»[25 - Там же, С.35.], – отмечал В. Г. Тахтамышев.
Как видно из данной цитаты, по небезосновательному мнению В. Г. Тахтамышева, заложенная в основу Библии концепция и выражающая её идеология носит нерелигиозный характер. Вообще, вопрос о границах религиозных и нерелигиозных (светских) учений и идеологий является спорным. Например, Р. Эпперсон считал, что религией является светский гуманизм, приводя в качестве одного из аргументов решение Верховного Суда США: «суд постановил: «Среди религий страны, которые не учат тому, что обычно рассматривается как вера в существование Бога – буддизм, даосизм, этическая культура, Светский гуманизм и другие»[26 - 484. Эпперсон Р. Невидимая рука. – СПб.: СЗ Ф. ИНЭС, 1999. – С.420.]. Р. Генон полагал, что существует всего три религии: христианство, иудаизм, ислам и множество метафизических систем. Нередко светские идеологии подобные марксизму причислялись к псевдорелигиям. В принципе идеологические ограничения можно приравнять к религиозным в тех случаях, когда религия является не связью с трансцендентным, а культивированием отчуждённых от человека его собственных продуктов и потенций, как это показано у Л. Фейербаха. Примером такой псевдорелигии является описанный Д. Неведимовым, но плохо осознанный в обществе товаро-денежный фетишизм – «религия денег»[27 - Неведимов Д. Религия денег. – http:// www. libereya.ru. – 2003. – 736с. Дата обращения 20.05. 2007 г.]. Такая религия, полностью имманентная и социальная, тождественна идеологии и является системой идеологических ограничений.
Однако в любом случае различие являющихся основой идеологий религиозных и светских концепций порождает разнообразие исходящих из них систем социальных ограничений.
Идеология, в отличие от концепции, носящей предельно абстрактный характер, является приспособлением концепции к условиям внешней – природной и социальной средыи особенностям подвергающихся идеологической обработке людей. Идеология имеет менее абстрактный и более детализированный характер по сравнению с концепцией и соответственно более подвижна и подвержена изменениям. Субъектом-носителем идеологии выступают рационально осознающие основы господствующей концепции идеологи. «Только подавляющее меньшинство членов общества способно действительно рационально и в полном объеме постичь и осмыслить логику «правящих идей», их взаимосвязь, их гармонию. Массам же эта «элита» передает определенные готовые нормативы, выведенные из «правящей идеологии»[28 - Элементы. Евразийское обозрение. – 1993. – №3. – С.1.], – отмечалось в журнале «Элементы». Идеология находит своё выражение в системе специфических мировоззренческих представлений, способствующих реализации данной концепции. Например, в марксизме концептуальной цели пролетарской революции соответствовало мировоззренческо-идеологическое представление об огромной роли ручного труда в становлении и развитии человека. Так как буржуазия не была занята ручным трудом, то подспудно получалось (хотя открыто этого не говорили), что она дальше отстояла от человеческого архетипа, чем пролетариат, была ближе к обезьяне и поэтому господствовала необоснованно. В кальвинизме по аналогичным причинам возникло представление о божественной благодати, якобы осеняющей богатых.
Одним из проявлений первичных форм идеологии является язык, который определяет, что и как вообще можно высказать и описать. Социальные ограничения языка проявляются в его грамматике, фонетике, орфографии, синтаксисе, пунктуации, количестве букв, иероглифов и прочих особенностях. Сложно согласиться с идеей В. фон Гумбольдта о том, что «мышление без языка попросту невозможно»[29 - Гумбольдт В. Язык и философия культуры. – М.: Прогресс, 1985. – С.408.], что границы языка определяют границы мышления, как полагали некоторые позитивисты, не учитывая возможностей внеязыкового, несловесного, образного мышления[30 - Абрамова Н. Т. Несловесное мышление. – М.: ИФ РАН, 2002. – 236с.]. Однако то, что невозможно или затруднительно выразить в существующем языке так и остаётся в форме туманных интуиций, мимолётных образов, неясных чувств, эмоций и томлений, то есть фактически вытесняется за рамки культуры и общества, оставаясь невыраженной частью внутреннего мира людей. Таким образом, язык как первичная форма идеологии является матрицей возможных для выражения состояний и чувств, определяющей их форму, взаимосвязи и комбинации. Что-то при этом получает возможность выражения, а что-то не получает, не случайно многие философы говорили о нехватке языка, о том, что у философии нет своего языка, и она по необходимости вынуждена косноязычно говорить на чужом (Г.-Г. Гадамер).
В России широкомасштабная секуляризация языка осуществлялась в XVIII веке, начиная с правления Петра I. Ф. Прокопович рассматривал церковно-славянский язык как непросвещённый и препятствующий просвещению, как язык ложного знания, стоящий на пути знания подлинного, как язык непонятный и мешающий пониманию[31 - Безлепкин Н. П. Философия языка в России. – СПб.: Искусство, 2001. – 392с.]. Это показывает, что идеология Просвещения требовала для своего внедрения адекватного ей языка, который бы, в отличие от церковно-славянского, не мешал её усвоению.
Язык как матрица возможностей развития внутренних сил человека и система первичного моделирования мировоззрения, хотя бы посредством акцентуации и связывания различных проявлений мира, является очень важной формой социальных ограничений, предопределяющей возможности выражения внутренних сил человека и акцентирующей (скрывающей) те или иные аспекты мироздания. Эти возможности и ограничения языка являются, по сути, концептуально предопределёнными, поэтому любая оригинальная концепция пытается выстроить свой язык, а иногда и навязать его обладателям других языков.
Языковые социальные ограничения, являясь одной из базовых, первичных их форм буквально пронизывают всю культуру и все элементы системы социальных ограничений.
Другой формой проявления идеологии, причём зависимой от языка, является этика. Этика определяет негативное и позитивное в действиях и мышлении людей и предписывает, как им следует себя вести в той или иной ситуации. Этика определяет основные морально-нравственные установки людей живущих в определённой культуре и находит своё выражение в содержании и структуре моральных норм. Этические социальные ограничения могут быть более примитивными, писанными, как 10 заповедей Моисея, а могут иметь и более сложный, не фиксированный характер. В последнем случае этические ограничения задаются в каждом конкретном случае исходя из ценностно-целевых установок соответствующей концепции (идеологии) и не поддаются формальной рационализации подобно механистическим нормам Ветхого Завета.
Этика как одна из форм идеологии является своеобразной и изменчивой в различных культурах и идеологиях. Так, в марксистской этике владение частной собственностью и основанная на ней эксплуатация человека человеком считаются аморальными, а для Т. Гоббса наоборот, частная собственность – стержень свободы человека, а эксплуатация такое же естественное явление как война всех против всех. По мнению одного из современных теоретиков либерализма Р. Дворкина, вопрос целей человеческой жизни и благой жизни для человека вообще не разрешимы, а правила морали и права не выводятся и не обосновываются в терминах более фундаментальной концепции блага для человека. Как отмечает А. Макинтайр, в этой позиции Р. Дворкина проявилась особенность современной этики в целом[32 - Макинтайр А. После добродетели. – М.: Академ. проект, 2000. – С.163—165.]. Это показывает, что добро и зло для либеральной этики равноправны, то есть либерализм субстанционально аморален. Отсюда закономерно вытекает пропаганда терпимости к наркомании, гомосексуализму и прочим порокам, закономерно сочетающаяся с попытками привлечения к суду активных оппонентов либеральной идеологии. Последними аргументами в этом случае оказываются сила и манипулятивное убеждение. Поэтому, как констатирует в своём исследовании, посвящённом этической истории Запада А. Макинтайр, сегодня господствующей стала этика своевольного индивидуалистического эмотивизма, ограниченного лишь эмотивизмом окружающих. Подобная ситуация свидетельствует о распаде единого этического пространства заражённых этим явлением обществ, что в известной мере ограничивает его членов.
Этические ограничения, носящие в общем внутренний, рекомендательный характер воплощаются в правовых ограничениях, имеющих уже обязательный характер. В отличие от этики, право имеет более механистичный и изменчивый характер, подобно всем низшим, вторичным социальным ограничениям по сравнению с высшими, первичными. Правовые ограничения часто запутаны, двусмысленны, противоречивы и не способны охватить собой все явления жизни, а потому нуждаются в корпусе истолкователей (юристов) и применителей (судей, чиновников и т.п.), которые при конкретном применении тех или иных правовых норм руководствуются в конечном итоге именно этическими установками, в том числе и маскируемыми под «интересы» и «потребности». Этические социальные ограничения как представления о хорошем и плохом, допустимом и недопустимом, должном и не должном в очень значительной степени детерминируют не только правовые, но и экономические, политико-управленческие, научно-технические, информационно-образовательные, военно-силовые сферы и отношения общества. Значение этических установок и ограничений хорошо показано в работе М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма»[33 - Вебер М. Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990. – 808с.].
Эстетика как социальные представления о прекрасном и безобразном, изображаемом и не изображаемом, гармоничном и дисгармоничном также является одной из базовых форм идеологии. Эстетические нормы очень важны для материальной культуры в целом, а не только для искусства, ибо, в конечном счете, именно они определяют облик и формы большинства изделий материальной культуры, вид наших городов, одежды, всего рукотворного мира. «Шапка-мурмолка,кепи и тому подобные вещи гораздо важнее, чем вы думаете; внешние формы быта, одежды, обряды, обычаи, моды, все эти разности и оттенки общественной эстетики… вовсе не причуда, не вздор, не чисто «внешние вещи», как говорят глупцы, нет, они суть неизбежные последствия, органически вытекающие из перемен в нашем внутреннем мире, это неизбежные пластические символы идеалов, внутри нас созревших или готовых созреть…»[34 - Леонтьев К. Н. Избранное. – М.: Рарогъ, 1993. – С.168], – писал К. Н. Леонтьев.
Также как этические социальные ограничения, многие эстетические нормы принимаются большинством людей бессознательно (что указывает на их неразумность). Как замечает Р. А. Уилсон, мало кто захочет есть из квадратной тарелки, но как можно добавить, мало кто и задумывается, почему тарелки круглые. Эти социальные ограничения наиболее значимы в искусстве и нашли свое выражение в представлениях о прекрасном и различных канонах художественного творчества.
Эстетические нормы также отличаются широким разнообразием, «цветущей сложностью» среди разных культур. В иудейской и исламской культурах, например, запрещено изображение человека и животных, так как это якобы является попыткой узурпацией божественного права на творение живого и недостойным его копированием. В противовес этому в этих культурах получили развитие геометрические и растительные орнаменты. Подобные запреты на изображение человека и животных является типичным социально эстетическим ограничением имеющим, однако, этический источник, так как изображать живое – это в господствующих в этих обществах религиях грех. Если попытаться выявить концептуальные основы этого запрета, то можно предположить, что его негативной основой была цель ограничить образное мышление у данной группы людей, а позитивной – развить у них в противовес абстрактно-логическое мышление и восприятие или, допустим, отвлечь их от внешнего мира и обернуть к миру внутреннему, духовному.
У одного из индейских племён из джунглей Амазонии всем, достигшим определённого возраста членам племени, подрезали нижнюю губу и вставляли в надрез особую дощечку; у некоторых народностей, живущих в Мьянме и Таиланде, считалось красивым вытягивать у женщин шею посредством металлических колец; в средневековом Китае у женщин красивыми считались маленькие ступни, для чего их с детства туго пеленали, хотя ходить им потом было неудобно. В современной цивилизации эстетические формы социальной незрелости и глупости выражаются в пирсинге, некоторых татуировках, размах которых вынуждает европейских законодателей принимать ограничительные меры. Пирсинг является типичным проявлением этико-эстетической лжесвободы, ведущей к психофизической деградации человека (так как он вреден для здоровья). Как видно, не все «древние заботились о силе и развитии человека как такового, новые – о его благополучии, его имуществе и способности к приобретению дохода»[35 - Гумбольдт В. Язык и философия культуры. – М.: Прогресс, 1985.– С.28.]. К. А. Свасьян в своей работе, посвящённой становлению европейской науки, показывает взаимосвязь гносеологических и эстетических ограничений и норм. «Идеал познавательной чистоты, взыскуемый классической эпохой, странным образом уживался с каким-то свирепым культом телесных неопрятностей»[36 - Свасьян К. А. Становление европейской науки. – М.: Evidentis, 2002. – С.210]. Так, от «Короля-Солнца» Людовика XIV, по свидетельству одной придворной дамы, пахло, как от падали, а стены парижских домов, не исключая и королевского дворца, были облеплены грязью, улицы представляли собой сточные канавы. По свидетельству И. Л. Солоневича, при французском дворе на стол ставилась тарелочка для убитых вшей, и ещё в начале XIX века парижане бойкотировали спектакли Шекспира за платок Дездемоны, полагая, что сморкаться следует на землю или пол. С другой стороны, подобная антисанитария способствовала развитию парфюмерии как способа её прикрытия.
К сожалению, многие эстетические ограничения (и свободы) являются по сути ложными, не ведущими к развитию человека. Подлинные эстетические ограничения должны быть природно и человеко соразмерными, подавлять и вытеснять всё уродливое, извращенное, патологическое и безобразное.
Фактологический и исторический материал, описывающий историю эстетических социальных ограничений, содержится в соответствующей исторической и культурологической литературе[37 - См. напр.: Аймермахер К. Политика и культура при Ленине и Сталине. 1917—1932 гг. – М.: Аиро-ХХ, 1998. – 208с., Крылов К. А. Поведение. – http://traditio.ru/krylov/ – М., 1997., Тоталитаризм. Из истории идеологий, движений, режимов и их преодоления. – М.: Памятники исторической мысли, 1996. – 540с.,]. При его осмыслении необходимо обязательно помнить, что эстетические ограничения и свободы являются именно отражением определённой идеологии, как производного социокультурной концепции жизнеустройства. В этом смысле деидеологизация, дерегулирование в культуре и искусстве являются мифами. Свобода эстетического самовыражения ограничена возможностями социального успеха, определяемого господствующими социальными группами и массами потребителей, чьи вкусы формируются теми же господствующими группами через СМИ. Инструментами такого регулирования являются: мода, различные «дресс-коды» в одежде и поведении, этические и правовые ограничения на демонстрацию обнаженного тела и т. п. Многие из этих мод и норм являются неполезными для здоровья и свободы телесного движения, негигиеничными и в целом неразумными. Даже если почти всё и допускается, то далеко не всё поддерживается, неподержанное же обычно обречено на безвестность, прозябание и, в конечном итоге, вымирание. Поэтому, часто разумнее согласиться на позитивные социальные ограничения, чем упиваться лжесвободой.
«Самое главное в идеократии – требование основывать общественные и государственные институты на идеалистических традициях, ставить этику и эстетику над прагматизмом и соображениями технической эффективности, утверждать героические идеалы над соображениями комфорта, обогащения, безопасности, легитимизировать превосходство героического типа над типом торгашеским…»[38 - Цит. по: Трубецкой Н. С. Наследие Чингисхана. – М.: Аграф, 2000. – С.19.], – писал А. Г. Дугин. Не похоже ли это на тоталитаризм? Порицаемый многими тоталитаризм ХХ века не ставил подобных целей даже в теории, не говоря о практике.
Четвёртой формой первичных социальных ограничений являются ограничения «онтологическо-гносеологического» характера. В светской культуре эти ограничения и свободы задаются в соответствующих разделах философии, в религиозных обществах эти вопросы решаются в священных писаниях и мифах: так в Библии содержится соответствующая книга, которая так и называется – Бытие. Данная форма идеологии отвечает на вопросы: «что вообще есть в нашем мире (и чего нет)» и «как можно (или нельзя) познавать (и изменять) это существующее». Она находит своё выражение в системе категорий, понятий и образов, отражающих сложные картины мироздания. Эта группа социальных ограничений очень важна, так как она не только задаёт парадигмальные основания для науки и техники, но и во многом предопределяет мировоззрение, представления об окружающем мире, исходя из которых, действует человек. Насколько эти представления важны, хорошо иллюстрирует история Средних веков и последующих столетий. Так, если полагать, что Земля плоская[39 - С 2016 г. подобные идеи стал снова обсуждать и пропагандировать А. Тюняев и ряд других авторов: См. Тюняев А. А. Метафизика климата Земли. – М.: Белые альвы, 2016. – 496с.], то незачем плыть на Запад, чтобы попасть в Индию, как это сделал Колумб, а, следовательно, и открыть Америку будет невозможно. Если полагать, подобно И. Ньютону и Г. Галилею что Вселенная – это механизм, то и политическую систему общества следует перестроить в механистическом духе, заполнить мир машинами, а человека, если и не превратить в машину, то сделать обслуживающим персоналом и сырьём для неё. Если Вселенная бесконечна, как полагают сегодня многие вопреки Аристотелю, то можно безоглядно её переделывать, потреблять и разрушать.
«Наука сталкивается всегда только с тем, что допущено в качестве доступного ей предмета её способом представления»[40 - Хайдеггер М. Время и бытие. – М.: Республика, 1993. – С.319.], – писал М. Хайдеггер. «Истинно, с точки зрения научной идеологии, существуют только атомы и пустота. И эта истина приковывает к себе, завораживает современного человека. На её очевидности, как фундаментальной скрепе, держится онтологическая стабильность современных сообществ. Как бы ни разнились люди, как бы ни отталкивались друг от друга в недоверии и эгоизме – все они сжаты, стиснуты в ничтожно малый комок тел безбрежной действительностью физического мира, мира мёртвой материи, в которой только смерть истинна, и только то мнение, которое обосновано взглядом через призму смерти, пользуется общепризнанным доверием»[41 - Тищенко П. Д. Био-власть в эпоху биотехнологий. – М.: ИФ РАН, 2001. – С.162.], – отмечал П. Д. Тищенко.
Развитие различных научных представлений описано в известной работе Т. Куна «Структура научных революций»[42 - Кун Т. Структура научных революций. – М.: АСТ, 2002. – 608с.], из российских исследований этого вопроса можно выделить, монографию А. Г. Дугина[43 - Дугин А. Г. Эволюция парадигмальных оснований науки. – М.: Арктогея-Центр, 2002. – 418с.]. «Вульгаризация классической науки, в огромной мере сформировала клише современной ментальности. Но качественная мутация науки в конце XX века не отразилась симметрично на соответствующем изменении общераспространенных ментальных клише. В этом мы сталкиваемся с любопытной асимметрией парадигм. Влияние научной мифологии на массы оказалось более устойчивым, чем основания этой мифологии. И новейшая наука, таким образом, пришла в определенное противоречие с нормативными гносеологическими установками масс»[44 - Там же, С. 362.], – писал А. Г. Дугин. Эти высказывания свидетельствуют о парадигмальной ограниченности научных знаний и методологий и о далеко не простом взаимодействии научного и обывательского представлений о мире, которые сегодня пришли в конфликт (ставший в последние годы одним из оснований для разгрома властями образования и науки).
«…Мы вынуждены также признать, отмечал А. Г. Дугин, – что человек превратился из обезьяны в человека только в эпоху Просвещения. Как ни странно это звучит, но аксиомы современной философской антропологии сложились именно на заре Нового времени, и в качестве эталона человека был взят именно человек этого периода. Правда, сразу же вслед за этим такая антропологическая установка была признана всеобщей и экстраполирована на всю историю. Там же, где структура человеческого сознания всерьез расходилась с рационалистическими нормативами Просвещения, например, у „дикарей“, „примитивных народов“ к ним царило отношение, как и „нелюдям“, что помимо всего прочего служило оправданием рабства и колонизации. Показательно, что Западный расизм и позорная практика работорговли в Америке сосуществовали с развитием либеральных и рационалистических доктрин, а виднейшие прогрессисты часто являлись рабовладельцами с расистским подтекстом. И одним из показателей отличия людей от „недолюдей“ в Новое время был именно уровень технического развития, т.е. уровень отчуждения человеческого субъекта от объектной природы. Редкой для эпохи Просвещения была позиция Жан-Жака Руссо, воспевавшего „добрых дикарей“ и считавшего развитие техники источником роста человеческих пороков»[45 - Там же, С.348—349.]. Последний пример показывает важность и остроту не только для науки, но и для других социальных сфер онтологических и гносеологических идеологических установок. Они, по сути, задают границы не только мирозданию, но и самому человеку. Скованный определенными парадигмами человек уже не может предвидеть будущее и выявить в современном мире перспективные проекты, тенденции и направления развития[46 - Баркер Дж. Опережающее мышление: Как увидеть новый тренд раньше других. – М.: Альпина Паблишер, 2014. – 188с.], в результате чего терпит неудачи, как в бизнесе, так и в жизни в целом.
Онтологические и гносеологические социальные ограничения тесно связаны с языковыми, слабее – с этическими ограничениями. Однако эта ситуация характерна только для современного общества и современной науки, которая требует точных языковых дефиниций (игнорируя при этом пространственно-временную изменчивость природных объектов и явлений), но при этом разделяет знание и этику, хотя об ответственности учёных за результаты своего труда говорят довольно часто. В античной науке, напротив, стремились достичь идеалов гармонии истины, добра и красоты, в средневековье этические ограничения даже подавляли гносеологические и научные изыскания. М. Фуко показал, что «фактически дознание было начальным, но основополагающим элементом формирования эмпирических наук… Пожалуй, правильно сказать, что… естественные науки, до некоторой степени, возникли в конце средних веков из практики дознания… На пороге классического века Бэкон, законовед и государственный муж, пытался перенести в область эмпирических наук методы дознания»[47 - 425. Фуко М. Надзирать и наказывать. – М.: Ad Marginem, 1999. – С.331—332.]. Так гносеологические ограничения смыкались с политическими и правовыми.
Русская философия, начиная от славянофилов, напротив, стремилась к идеалам «цельного знания», в котором знание и вера, добро и красота, пребывали бы в содружестве гармоничного всеединства. В идеале онтологические и гносеологические социальные ограничения должны быть тесно связаны не только с языковыми, но и с этическими и эстетическими ограничениями, что обеспечивало бы природоподобнуюгармонию и соразмерность различных фрагментов господствующей идеологии и избавляло сознание её носителей от хаотизирующих внутренних конфликтов, ведущих его к деградации.
Представленная здесь структура идеологических ограничений важна тем, что она, по сути, аннулирует расхожий миф о деидеологизации. Деидеологизация означает исходя из данной системы, отказ от языка, этики, эстетики и онтологии с гносеологией. Вряд ли в каком-либо обществе подобная «деидеологизация» окажется возможной. Социально ограничивающий, посредством создания ложного представления о реальности, миф деидеологизации мистифицирует этот вопрос. На самом деле под деидеологизацией понимается не деидеологизация вообще, а избавление от чуждой «деидеологизаторам» идеологии. Своей же идеологии у «деидеологизаторов» якобы нет, но это не её отсутствие, а либо их сознательное лукавство, либо их предельная идеологизированность, которая настолько глубока, что даже не осознается ими; может иметь место и известная наивность, не позволяющая им понять эти вопросы. «Деидеологизация» в последнем смысле неосознаваемой идеологизированности – это предел тотального господства одной идеологии, достигшей статуса не обсуждаемой и неосознаваемой тайной догмы. Принцип деидеологизации также обосновывает подавление всех сколько-нибудь активных приверженцев и выразителей любой альтернативной идеологии, причем независимо от её содержания (она плоха уже потому, что альтернативна), по обвинению или даже заподазриванию в распространении её в массах, чего делать, по мнению деидеологизаторов, нельзя. Такая система очень удобна для угнетения и подавления любых актуальных и потенциальных противников существующего режима. М. Лютер, бросивший вызов Римскому Папе, на основе нового прочтения и истолкования Библии (священного текста, господствующей идеологии) в такой системе невозможен. Невозможны и «суперортодоксы», более праведные с точки зрения официальной доктрины, чем власть предержащие. «Священный текст» (идеология, концепция) является здесь монополизированной и скрытой от масс и всех потенциальных критиков и оппонентов собственностью власти, произвольно «толкующей» его по своему усмотрению. Поэтому любой «несогласный», критик существующих порядков или реализующих их лиц, оппонент – здесь априорный невежда и профан, не посвященный в тайны реализуемой идеологии и концепции. Как невежда и профан, он «всегда не прав», так как, не зная «тайного плана» власти, обречен всегда ошибаться в критике его исполнения. Язык как набор правил выражения мысли, слова и образа здесь также монополизирован властями, так как выражать свою мысль в нем необходимо по законодательно установленным властями нормам, что ещё более затрудняет возможности самовыражения.
Для господства таких идеологических догм смертельно опасно не только какое-либо их обсуждение, поиски их основ и рациональных аргументаций в их пользу, но даже сам факт их раскрытия как существующих. Стремящаяся поставить всё под свой контроль и учёт «воля к воле, соответственно сама в качестве бытия устраивает сущее. В воле к воле впервые достигает господства техника (обеспечение установленной данности) и категорический отказ от осмысления, беспамятность…»[48 - 428. Хайдеггер М. Время и бытие. – М.: Республика, 1993. – С.185.], – писал М. Хайдеггер. В этой ситуации «поскольку говорение утратило первичную бытийную связь с сущим, о котором речь, соответственно никогда её не достигало, оно сообщает себя не способом исходного освоения этого сущего, но путем разносящей и вторящей речи. Проговоренное как таковое, описывает все более широкие круги и принимает авторитарный характер[49 - Удивительно меткое и пророческое наблюдение: сейчас это проявлено в интернете: например, в русском Твиттере 95% информации – репосты, копии чужих сообщений.]. Дело обстоит так, потому что люди это говорят. В таком до – и проговаривании, через которое уже изначальная нехватка почвы, достигает полной беспочвенности, конституируются толки… Толки есть возможность все понять без предшествующего освоения дела. Толки уберегают уже и от опасности срезаться при таком освоении. Толки, которые всякий может подхватить, не только избавляют от задачи настоящего понимания, но формируют индифферентную понятливость, от которой ничего уже не закрыто»[50 - Хайдеггер М. Бытие и время. – М.: Ad Marginem, 1997 – С.168—169.]. По этой схеме оторванных от сущностей явлений и вещей и расходящихся во вне кругами авторитарных толков работают современные СМИ и большая часть интернета, смещающие внимание публики с важного на второстепенное, за счет чего происходит оглупление масс, подсаженных на «ложный информационный поток» (А. И. Фурсов).
Также на уровне таких псевдопонимающих «толков» находятся представления о деидеологизации, выполняющие функцию сокрытия господствующей идеологии. Эти хайдеггеровские «толки», к сожалению, являются обычным состоянием массового сознания, зеркалом которого являются социальные сети интернета. При этом те вопросы, которые «толки» массового сознания обходят стороной вместе с управляющими ими идеологами, как раз и являются ключами и проходами к скрытым идеологическим догмам. Поэтому самое главное в СМИ – это не то, о чем там говорят, а то, что они умалчивают.Самые важные события не освящаются в СМИ, либо «топятся» в потоках второстепенной информации. Но ту же роль «ключей» к тайным догмам играют и наиболее назойливо обсуждаемые в СМИ вопросы и проблемы, которые могут быть как инструментами скрытого навязывания тех или иных догм, так и способами отвлечения от замалчиваемых вопросов. Например, идеологема американоцентричного мира может навязываться посредством акцентирования внимания именно на событиях и процессах происходящих в США, допустим выборах американского президента (последний пример – выборы Д. Трампа в СМИ РФ). Поэтому сообщения СМИ должны расшифровываться не как объективное отражение мировых процессов, а как завуалированная накачка идеологическими нормами, ценностями и схемами поведения. Например, если в СМИ присутствуют в одном блоке два сообщения «президент подписал указ о призыве в армию» и «по опросам граждане хотят быть военными и врачами», то моделируется мыслительно-поведенческая схема: «граждане хотят быть призванными в армию» и вообще хотят исполнять любые повеления президента. В принципе большинство сообщений СМИ представляют подобные программирующие информационные блоки, задача которых не в информировании, а в манипулировании поведением, картиной мира и желаниями зрителей.
Таким образом, тотально господствующая идеология действительно деидеологизируется, мимикрирует и исчезает, воплощаясь в произведения материальной и духовной культуры, людей и маскируясь под естественные законы и божественные установления. В либерализме сокрытие идеологии осуществляется посредством мифов естественных законов и прав и представлений об её отсутствии, а в марксизме – посредством апелляции к науке, и представлении об идеологии как отражении материального бытия. Подобная ситуация приводит к появлению самозамкнутой системы социальных ограничений, которая может преодолеваться через следование превосходящим её законам природы, преодолеть которые она не в состоянии. Однако, она в состоянии скрыть эти законы от масс, посредством разрушения образования и обнаруживающей их науки. Также власть предержащие могут принимать какие-то социальные контрмеры против влияния природных законов, например, сокращая финансирование и административно подавляя те сферы человеческой жизнедеятельности, которые должны, напротив, по природным законам в данное время развиваться[51 - В советские времена с этой целью применялся посев сельскохозяйственных культур по указке партии, а не по оптимальным климатическим и погодным условиям.]. У людей в этой ситуации появляется выбор – следовать высшим законам природы и духа или низшим законам правителей общества.
Идеологические ограничения, имеющие по преимуществу идеальный характер, находят свою конкретизацию и материализацию на более низких уровнях пирамиды социальных ограничений. Эти ограничения, которые можно назвать вторичными, имеют смешанный, идеально-материальный характер. Эти блоки социальных ограничений можно структурировать следующим образом:
– Политико-управленческие социальные ограничения;
– Правовые социальные ограничения;
– Информационно-образовательные социальные ограничения;
– Технико-технологические социальные ограничения;
– Экономические социальные ограничения;
– Военно-силовые социальные ограничения;
– Структурно-демографические социальные ограничения.
При оценке этой схемы следует учитывать, что все эти ограничения тесно переплетаются между собой, образуя систему и, конечно, они могут быть классифицированы каким-то иным образом. Достаточно очевидно и то, что эти вторичные формы социальных ограничений могут в ходе дальнейшего анализа дробиться на всё более и более малые разновидности. Однако в данной работе подобная аналитико-схоластическая операция представляется не целесообразной, так как может до бесконечности увеличить её объём и вывести за пределы собственно философии, занятой поиском наиболее общих закономерностей и явлений.
Политико-управленческие социальные ограничения выражаются во властном ограничении тех или иных социальных сфер, групп и социокультурных практик. Субъектами этой группы ограничений выступают группы и отдельные личности, имеющие по своему социальному статусу определённые властные полномочия. «Превращая отдельных людей в функции, огромный аппарат обеспечения существования изымает их из субстанционального содержания жизни, которое прежде в качестве традиции влияло на людей… Систему образует аппарат, в котором людей переставляют по своему желанию с одного места на другое, а не историческая субстанция, которую они заполняют своим индивидуальным бытием»[52 - Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.: Республика, 1994. – С.310.], – писал К. Ясперс о бюрократии, выступающей в роли коллективного субъекта политико-управленческих социальных ограничений.
В принципе, субъектом подобных ограничений может быть любое лицо, находящееся в позиции начальника по отношению к другому лицу – учитель, контролёр, полицейский, чиновник, руководитель частной фирмы, – который может своим властно-волевым решением кого-то в чём-то ограничить. Подобная возможность называется властью, как реализованной способностью управлять. Для реализации этой власти властный субъект должен обладать свободой воли, выбора и действий, а также хотя бы минимальным пространством для реализации своих полномочий, то есть свободой, без которой никакая власть невозможна. Однако, возможна и имитация власти, когда «как бы властный субъект» на самом деле является марионеткой, скрытно управляемым со стороны роботом или киборгом. В принципе, власть является внутренне автократичной, самопровозглашаемой.
«Имеют ли два человека право отнимать у другой группы людей?… Может ли группа людей собраться, объявить себя правительством, а затем наделить это правительство правом, которым они сами не обладают? Даже если эта группа является большинством?»[53 - Эпперсон Р. Невидимая рука. – СПб.: СЗ Ф. ИНЭС, 1999. – С. 27.], – спрашивает американский политолог Р. Эпперсон. На мой взгляд, на этот вопрос следует ответить положительно, при условии, что найдётся другая группа людей, которая поверит в их властные права или подчинится им из каких-то иных соображений. Почему же так происходит? «Чтобы не играть в тайноведение и невежество, придётся признать одно: власть – это смысловое начало. В качестве смыслов ее образы в чем-то изменчивы, а в чем-то постоянны. Но всегда и в любой культуре власть, так или иначе, принималась как позитивное начало. За властью всегда стояла некоторая бытийственная утвердительность»[54 - Сапронов П. А. Власть как метафизическая и историческая реальность. – СПб.: Церковь и культура, 2001. – С.14.], – отмечал П. А. Сапронов. Надо сказать, что мнение П. А. Сапронова не совсем соответствует действительности, вспомним хотя бы идеи различных анархистов[55 - См. напр.: Хаким-Бей Хаос и анархия. Революционная сотериология. – М.: Гилея, 2002. – 172с.]. А. А. Меняйлов даёт другой ответ: причина подчинения власти, гипнабельность и стадность присущие большинству[56 - Меняйлов А. А. Теория стаи. – М.: Крафт+, 2004. – 576с.]. Аналогичные Меняйлову выводы можно сделать и из работы Э. Канетти «Масса и власть»[57 - Канетти Э. Масса и власть. – М.: Ad Marginem, 1997. – 528с.]. У роботов основой подчинения является вмонтированная в них программа, у животных – её аналог, инстинкт, а также привычки, стереотипы, рефлексы и прочие механические формы поведения. Есть и метод ситуационного манипулирования. Например, где-то ставится забор. Человек, допустим, в принципе может его перелезть, но это хлопотно и в итоге он как бы добровольно выбирает движение по желательной для заборостроителей траектории. Подобных физических и метафизических заборов – социальных ограничений в обществе очень много.
Объектом политико-управленческих, как и других социальных ограничений выступает человек в своём индивидуальном и коллективном существовании. Ограничению при этом, как это показано у О. Д. Гараниной, подвергается всё многообразие его антропообразующих качеств: телесно-физиологических, психических и социальных[58 - Гаранина О. Д. Homo totus. Взаимосвязь природы и сущности человека. – М.: РФО-МГТУГА, 1999. – С.75.].
Более подробно феномены власти, управления и вытекающих из них ограничений проанализированы в работах Ю. П. Аверина, Аристотеля, М. Вебера, Р. Генона, И. А. Гобозова, Г. Дебора, Н. В. Жмарёва, Э. Канетти, С. Г. Кара-Мурзы, Н. Лумана, А. А. Меняйлова[59 - Подвергался гонениям и судебным преследованиям за свои взгляды в РФ.], Ф. Ницше, Платона, П. А. Сапронова, М. Сах Сварнкара, М. Фуко и многих других авторов.
Политико-управленческие социальные ограничения тесно связаны с другими формами социальных ограничений, предопределяясь идеологией и находя своё выражение в праве, экономике, и прочих областях.
Правовой блок социальных ограничений находит своё выражение в существующей в обществе правовой системе и является производным от этических и языковых ограничений и политико-управленческих решений. Система права представляет собой официально принятые и обычно опубликованные законы[60 - Существует целая система негласных для масс ведомственных и даже корпоративных подзаконных актов и инструкций, по которым нам, тем не менее, приходится жить, хотя формально – это не законно.], документы, распоряжения и инструкции, регулирующие те или иные аспекты социальной практики. Непосредственным субъектом правовых социальных ограничений являются органы законодательной власти и субъекты политико-управленческой деятельности, в том числе негосударственные[61 - Например, Британская Остиндская компания, имевшая свою армию, бюрократический аппарат и управляемые территории – типичный пример псевдогосударства. Интересно, какие из современных «государств» являются её замаскированными аналогами?] и надгосударственные (например, ООН, Международные суды и трибуналы). Функционирование системы права невозможно без правоохранительных органов и право применяющих (суды, юристы) социальных организаций и лиц. Особенностью правовых ограничений является формальная обязательность их исполнения и наличие социальных санкций (репрессий) за их нарушение, чего в случае политико-управленческих социальных ограничений может не быть. Это означает, что правовые ограничения являются закреплением политико-управленческих социальных ограничений, а не наоборот, как пытаются убедить нас некоторые юристы и политологи, рассуждающие о «диктатуре закона». В качестве примера правовых социальных ограничений можно привести отсутствие каких-либо законодательно закрепленных прав, свобод, льгот, гарантий или, напротив, наличие запретов, ограничений на какие-либо виды социальной практики. Под правовыми ограничениями можно понимать правовые обязанности в трактовке Н. Н. Алексеева, как «вынужденность каких-либо положительных и отрицательных действий, безразлично, проистекает ли она из внутренних побуждений или из внешнего давления»[62 - Алексеев Н. Н. Русский народ и государство. – М.: Аграф, 2003. – С.155.].
Для Гегеля «право есть не „норма“, но как бы „нормальное бытие человеческого духа“; право есть правое существование воли, правильный способ ее жизни, или правильное состояние человеческой души»[63 - Цит. по Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. – СПб.: Наука, 1994. – С. 306.], то есть он рассматривает правовые ограничения как осознанную зрелым человеком необходимость ограничения кем-то своей воли. На наш взгляд такая позиция является спорной. Здесь Гегель вслед за христианством пытается поставить душу под контроль личности, которая собственно и существует в пространстве социально обусловленного права. Попытки же Гегеля вывести европейское право из трансцендентных оснований не выдерживают критики, так как у разных народов и иных «социальных организмов» (церквей, корпораций, масонских орденов и т.п.) существуют разные правовые системы, нередко противоречивые по отношению друг к другу. В этом случае гегелевский «мировой дух» выступает в роли игрока, диктующего разным фигурам мирового спектакля разные правила игры. Выглядит такое забавно. Скорее это похоже на попытки закулисных игроков обожествить свои правила, навязав их через личность духу, душе и телу и лишить их собственной воли, субъектом которой должна быть только личность, как социально обусловленное образование.
Иную, нигилистическую позицию по отношению к правовым социальным ограничениям занимает М. Штирнер. «Я сам решаю, – имею ли я на что-нибудь право, вне меня нет никакого права. То, что мне кажется правым, – и есть правое. Возможно, что другим оно и не представляется таковым, но это их дело, а не мое, пусть они обороняются. И если бы весь мир считал неправым то, что, по-моему, право и его я хочу, то мне не было бы дела до всего мира. Так поступает каждый, кто умеет ценить себя, каждый в той мере, в какой он эгоист, ибо сила выше права с полным на это правом»[64 - Штирнер М. Единственный и его собственность. – СПб.: Азбука, 2001. – с. 226.]. Здесь мы видим антропоцентричную и асоциальную установку либерального индивидуализма, осознающего вторичность права по отношению к силе. Такая позиция должна иметь какие-то внесоциальные источники и предпосылки, ибо для личности, как сугубо социального продукта она выглядит противоестественной. Несложно заметить, что именно этой философией руководствовались А. Гитлер и современные США не международной арене, хотя и многие их жертвы вели себя, по сути, точно также.
Вообще среди систем правовых ограничений можно выделить три основные системы, исходящие по источнику правовых ограничений из трёх парадигм. Первую парадигму и систему права можно назвать трансцендентно ориентированной. В этой системе источник права трансцендентен, а реализуется она в монархии и теократии. В органической системе права источником права считается народ и реализуется она в форме демократии. В третьей концепции источником права является просто место, «седалище» власти (Т. Гоббс) и реализуется она в форме диктатуры. В ХХ веке нередко имела место комбинация второй и третьей парадигм, когда формальные отсылки к воле народа и демократические процедуры сочетались с фактической диктатурой (СССР, РФ). Подобная комбинация была далеко не случайной, так как обе последние системы права в конечном итоге покоились на силе (а не на мудрости, знании или справедливости), в полном соответствии с идеями М. Штирнера. Это верно и в отношении систем права построенных исходя из теории «общественного договора». Очевидно, что к этим системам права не относится принцип «не в силе Бог, но в правде», присущий трансцендентной концепции и в ситуации верховенства силы[65 - Но сила бывает разной: духовной и демонической, интеллектуальной, информационной, физической, психической, финансовой и т. д.] все правовые ограничения достаточно условны, а потому и на соблюдение их особенно рассчитывать не стоит.Нарушение формальных норм права «сильным» в этих концепциях не исключение, а негласная норма, а его соблюдение сильным носит зачастую демонстративно-показной и пропагандистско-манипулятивный характер. По сути, это торжество воинствующего беззакония, причём концептуально оправданного, которое мы все можем постоянно наблюдать в современном мире. В этой связи курьёзом выглядит концепция «открытого общества» К. Поппера, основная идея которого «власть закона»[66 - Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2-х т. – М.: Финико, 1992. – Т.1. С.8.], ибо К. Поппер отрицает трансцендентные источники права, основываясь на первичности штирнеровского индивида и демократическо-договорной легитимации социальных и правовых институтов. Таким же курьезом выглядит это и в реальных обществах, где «диктатура закона» всего лишь скрывает беззаконие.