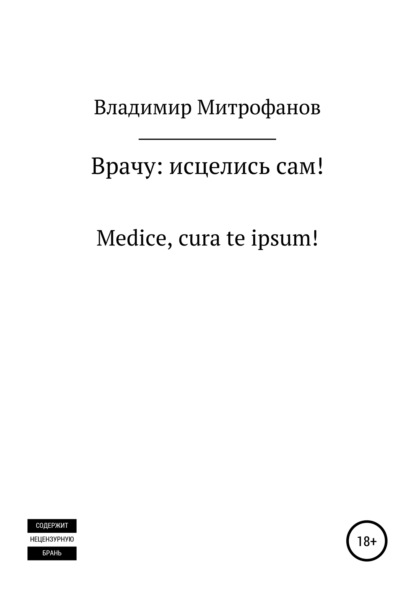По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Врачу: исцелись сам!
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Глава 3. День третий. Пятница
Пятница только кажется легким днем. В пятницу всегда большая выписка. Самые тяжелые больные имеют тенденцию поступать в пятницу, да еще и после обеда – к концу рабочего дня. А впереди – выходные, работа только дежурных служб. Иногда это приводит к серьезным проблемам в понедельник.
Утро началось как всегда с обжевывания насущных проблем на "пятиминутке". Только собрались расходиться, как Амалия Аркадьевна, заведующая клинической лабораторией, снова завела свою длинную песню, чего там у них не хватает из реактивов. Раз в неделю на нее находило. И опять ей как всегда сказали, что она сама виновата, так как не вовремя подала заявки и так далее. Та говорила, что подавала заявки, и даже копии есть, но ее никто не слушал.
Потом Борисков пошел в свое отделение, и сразу же начались проблемы. У поступившего вчера больного с предполагаемой пневмоцистной пневмонией сработал тест на ВИЧ, его тут же повторили и подтвердили. Теперь требовался перевод в инфекционную больницу в специализированное отделение по СПИДу. Тут же состоялся неприятный разговор с женой этого больного. Ей ведь тоже нужно было делать анализ. Борискову, впрочем, показалось, что она не слишком-то была и удивлена и явно что-то не договаривала.
На памяти Борискова была история одного такого ВИЧ-инфицированного. Он скрыл от родственников, что заражен, расстался со своей подругой, которой это было известно (они вместе обследовались), и женился на другой женщине, которая этого не знала, и заразил ее.
Мимо Борискова по коридору, шаркая тапками, прошли слепой мужчина лет пятидесяти и сопровождавшая его женщина. Борисков знал этого слепого, фамилия его была Торич. Моряк торгового флота, он имел стабильную высокооплачиваемую работу на иностранном судне, курсируя между северными странами Европы и к тому же довольно часто бывая дома в Питере, когда однажды их работодатель приказал перевезти партию зерна из Аргентины на Канарские острова. Они находились посреди Атлантического океана, было очень жарко, и он проснулся ночью оттого, что в каюте билась залетевшая в открытый иллюминатор птица. Птицу прогнали, но когда члены экипажа вышли на палубу, оказалось, что на корабль села большая стая. Весь корабль был густо загажен пометом, который всей командой отмывали целый день. Через какое-то время у Торича заболела голова, и в итоге оказалось, что он заболел криптококковым менингитом – вдохнул грибок, содержащийся в помете тех самых птиц, и в результате потерял зрение. Грибок в мозгу моряка убили лекарствами и теперь в институте мозга пытались в какой-то степени восстановить зрение, и дело хоть медленно, но продвигалось: он уже начал различать световые пятна. Была одна цель: хотя бы чуть-чуть видеть, хотя бы куда идешь. Только чтобы не полная тьма. Сюда в клинику он приходил на консультацию профессора Самсыгина.
Проводив бывшего моряка и его супругу взглядом, Борисков снова нырнул в палаты на обход. Вынырнул он оттуда только без десяти час и даже чаю не пил.
В час дня у главного входа открывали мемориальную доску академику Петрову. Всем свободным от экстренной работы приказано было там быть. Шел мелкий дождь. Кроме своих было довольно много приглашенных. Прибыл ректор медуниверситета, приехали чиновники из городской администрации, репортеры с телевиденья. Камеры у телевизионщиков были завернуты от дождя в пластиковые пакеты. Говорили речи.
Борисков, когда учился в ординатуре, еще застал академика Петрова при жизни. Тогда это был уже древний человек, настоящий патриарх, совершенно лысый. Ему выделили отдельный кабинет, в котором он целыми днями сидел и что-то писал. Борисков встретил его однажды на автобусной остановке с какой-то большой сумкой, поздоровался. Тот всмотрелся, не узнал, но понял, что это какой-то молодой врач. Потом вдруг сказал: "Увожу вот свои рукописи домой – здесь они никому не нужны". Оказалось, что и этого гиганта вытесняли. Закон природы. Теперь же Петрову планировали создать чуть ли не мемориальный кабинет, хотя Борисков очень сомневался, что создадут. Завтра и забудут, что сегодня говорили. Борисков взялся тогда помочь академику рукописи дотащить, довез до самого дома, даже зашел туда. Это была огромная квартира, загроможденная бумагами и книгами, там были еще антресоли, которые тоже были забиты книгами. От чая Борисков тогда отказался – не было настроения. Помнится, остановился у какой-то старой фотографии на стене, где все были молодыми. Академик, заметив это, зачем-то сказал ему: "Молодость быстро кончается". Борискову тогда в это как-то не верилось. Это тогда казалось отдаленными и непонятными проблемами пожилых людей. У него были свои проблемы. Он тогда только что расстался с любимой подругой, а замены ей долгое время никак не находил. И, в общем-то, так никогда и не нашел.
В связи с этим открытием мемориальной доски вспомнились Борискову поразившие его строчки из воспоминаний одной известной ученой: "Я старалась прожить жизнь так, чтобы не было стыдно за прожитые годы. И что осталось от моих многолетних усилий? Почти ничего!"
По окончании митинга все, немного отсырев, толпой повалили через главный вход в больницу. Начальство направилось в кафе на банкет, а рядовые сотрудники стали расходится по своим подразделениям. Проходя мимо главной больничной доски объявлений, Борисков вдруг заметил внизу маленькое, даже можно сказать крохотное, почти незаметное, но очень приятное извещение на "липучке": "Вновь открылся клуб любителей "Хенесси". И все. Больше ни слова.
Это было объявление для посвященных. Этот "клуб любителей Хенесси" был абсолютно неформальной организацией без какой-либо внутренней структуры. Просто клуб по интересам, или, скорее, без каких-либо интересов. И Борисков был его постоянным членом. Какое-то время они довольно регулярно собирались по четвергам после окончания работы, совершенно разные, никак не зависящие друг от друга просто знакомые люди, и за рюмочкой другой обсуждали разные проблемы. Борисков специально в такие дни приезжал без машины. Пили исключительно подаренные пациентами и очень дорогие элитные напитки. Никогда никакой водки. Только виски, коньяк и текила. И только самые лучшие. Отсюда и появилось это название. Одно время получился некоторый перерыв: то ли не позволяла работа, то ли, что маловероятно, не было напитков. Объявление извещало о том, что клуб снова работает.
Как только Борисков вошел в свое отделение, его тут же вызвали в палату: больному плохо. Пациент, мужчина пятидесяти двух лет, был весь в поту, часто дышал, жаловался на боли в сердце. Сразу же на месте сделали кардиограмму – ничего острого. Тут были ощущения скорее больше от страха: после перенесенного инфаркта, клинической смерти и отделения реанимации этот больной к себе очень внимательно прислушивался и чуть что сразу жал на кнопку вызова персонала. Он даже курить бросил, хотя курил, наверно, лет тридцать и чуть ли не по две пачки в день. Два дня назад его перевели в обычное отделение из реанимации, где он перенес клиническую смерть. Сердце тогда с трудом удалось завести.
– Ну и как ТАМ? – спросил его тогда Борисков.
– Там – страшно! ТАМ – ничего нет! Умирать никак нельзя! Спасайте! – говорил этот пациент. Он храбрился, но было видно, что человек действительно очень напуган.
Затем разбирались с одной поступившей утром на отделение молодой женщиной. При поступлении у нее взяли кровь, и оказалось, что она заражена сифилисом. От кого – конечно, предполагала, но не была точно уверена, да и знала партнера только по имени, а как фамилия, где живет и чем занимается – ни малейшего представления не имела – ее это просто не интересовало. Известно только было, что это молодой, чуть за тридцать здоровый кавказский мужчина, очень темпераментный. Никаких дальних перспектив она с ним вовсе даже и не планировала, хотела только, чтобы еще подольше продержалась бы эта связь. Познакомились они совершенно случайно на улице, и он ей сразу понравился. Очень обаятельный. Любил рестораны, обожал кинуть "бомбил", которые его подвозили: свалить не заплатив. Проделывал он это артистично.
Чтобы попасть в кардиологию к трем, Борисков отпросился у заведующей пораньше уйти с работы. Однако пробок по дороге не было, и когда, запарковав машину, он подошел к кафедре кардиологии, оказалось, что до назначенного времени ждать еще целых пятнадцать минут. Заглянул в ассистентскую, спросил Столова. Сидящие там люди в белых халатах ответили не очень любезно: " Он на отделении. Должен скоро подойти". Борисков сел в общую очередь у двери кафедры. Впрочем, очереди как таковой, по сути, и не было: больные сидели, кто к кому, и обычно в сопровождении родственников. Дед с палочкой и ветеранскими планками выглядел несокрушимо, как перед боем. Интересно, к кому? Если и он к Столову, то обойти его не представлялось возможным.
Ждать пришлось около получаса. Наконец Столов появился, Борисков привстал и сказал: "Я от Акулинич Натальи Михайловны!" – в своем голосе он ощутил даже некоторые заискивающие нотки. Столов секунду смотрел непонимающе, потом в глазах появилось некое узнавание: "Да-да, минутку!" Действительно через минуту он вышел, они прошли по коридору в свободный кабинет. Там сели, поговорили. Незаметно перешли на "ты". Столов внимательно просмотрел принесенную электрокардиограмму, улыбнулся: "По этой записи сказать что-либо трудно, надо сделать пробу с нагрузкой на велоэргометре. Сможешь оплатить, чтобы к нам потом никаких претензий не было?" – "Да, конечно!"
Сходил в кассу, оплатил. Сделали пробу с нагрузкой на велоэргометре, но и там ничего плохого не нашли. Тогда Столов принес холтеровский монитор – устройство типа МР3-плеера: "Что ж, попробуем половить эти экстрасистолы в течение суток. Сейчас повесим на тебя монитор, и будешь с ним ходить до завтра! Потом сам снимешь его, а в понедельник встретимся снова, распечатаем и решим, что делать дальше. ("Все, плакала баня!" – возникла у Бояркина запоздалая мысль, когда Столов стал ему лепить на грудь электроды.) Ни в чем себя особо не ограничивай – посмотрим, как ведет себя сердце в обычной обстановке, дай ему нагрузку, понагружай, поднимись на несколько этажей вверх, но если будут боли, принимай таблетки, которые дала Наташа," – Борискову показалось, что тут в глазах Столова возникла теплая искорка. Что-то между ними все-таки было. Во время разговора Столову несколько раз звонили на мобильный. Он, извиняясь, отвлекался на разговоры по телефону. Это всегда вызывало у Борискова раздражение. Врача отвлекают от главного важного дела: лечения больного. Но и ему самому звонили, и он сам отвлекался, а пациенты терпеливо ждали.
Выходя к машине, Борисков встретил на стоянке какого-то метавшегося человека с цветами, который почему-то кинулся именно к нему: "Где тут морг?" Показалось как-то будто бы неслучайно. Это было как есенинский черный человек или моцартовский заказчик реквиема. Но от них, то есть от Есенина и Моцарта, хоть что-то осталось. Была такая интересная версия, еще в юности, когда один за одним умирали генеральные секретари КПСС: "Хочешь узнать, как ты прожил жизнь, посчитай, сколько человек пойдут за твоим гробом". Конечно, это был юношеский максимализм. От жизни все или ничего. Тут же стал вспоминать несоответствия по этому утверждению. В памяти всплыл разве что Моцарт, похороненный в общей могиле. Но вполне могло быть, что и это все было вранье.
В такой ситуации можно было, конечно, сесть на больничный и спокойно обследоваться, но тут оказалось, что Борисков ни разу в жизни не брал больничный, и даже не знал, как это делается. Нет, было: один раз болел гриппом еще в ординатуре, причем заболел на дежурстве: вечером зазнобило, а утром температура уже была 42, еле-еле смог встать. Чуть живой приплелся тогда на прием в свою районную поликлинику в том районе города, где тогда жил. Участковый врач, заполняя карту, спросил профессию, дал больничный? сказал: "Лечитесь сами!" Было это лет уже лет чуть не двадцать назад. Жил он тогда совсем в другом месте. Где его теперешняя районная поликлиника, он даже не представлял. Говорили, что это место, где страшно бывать. Идти туда, стоять в очередь вместе со старухами. Там наверняка будет сидеть на приеме врачиха пенсионного возраста. Борисков реально не знал, что делать. Получалось так, что прожитая им жизнь не очень-то и удалась. Было сделано слишком много ошибок, а начинать сначала было уже поздно. Горячего камня, как в рассказе Гайдара, увы, не существовало. Он вдруг подумал, что с удовольствием разбил бы этот камень и начал жизнь сначала. Хотя однажды понял, что вряд ли жизнь была бы другой. Теория реинкарнации, то есть переноса души из одного тела в другое, оставалась лишь теорией, и рассчитывать на нее было никак нельзя. Не исключено, что где-то наверху было принято решение: "Программа "Борисков" оказалась неудачной, вредоносной и должна быть стерта!"
За всеми этими хлопотами еле-еле успел к себе в поликлинику к пяти. Прием был совершенно дурацкий, не клеился с самого начала: кто-то не пришел, другие опоздали. К тому же еще одного пациента попросили посмотреть бесплатно как инвалида первой группы. От Борискова требовалось дать заключение по общему состоянию здоровья. Оказалось, мужчина этот когда-то работал в милиции и в гневе застрелил преступника, изнасиловавшего его дочь, но его за это осудили и посадили. Закон есть закон. В колонии его опустили, всячески мучили и в конечном итоге отрубили обе руки. Вернулся он инвалидом первой группы – с культяпками, выбитыми зубами и совершенно сломанный духовно. Жена от него отказалась сразу же, как только его посадили, дочь тоже не хотела его знать по каким-то уже своим причинам. Теперь он получал крохотную пенсию и по выходным сидел на паперти. Оттуда его тоже гнали, пришлось идти на поклон в пресловутую цыганскую мафию нищих, которые хотя и забирали большую часть подаяния, но за это купили ему камуфляж и разрешили ходить по вагонам метро с открытым полиэтиленовым пакетом для денег и почти не били. Но хотя бы одна рука была! Идея протезистов состояла в том, чтобы сделать из культи клешню, тогда можно было хоть что-то ею цеплять, или, если так не получится, хотя бы какой-нибудь протез сделать, но там тоже нужны были деньги, и не малые. Что делать, такие времена, как теперь говорили, Cash & Cure ("Заплати и излечись"). Лозунг этот был переделан Жизляем из Cash & Carry ("Плати и выноси"), увиденного им в магазине "Метро". Жизляй все хотел предложить начмеду написать его над входом в больницу большими буквами с подсветкой.
Потом в регистратуре возник некий шум, слышимый на обоих этажах поликлиники. Оттуда позвонили и сказали с ужасом в голосе: "К вам идет Мовчан!" Ольга Михайловна Мовчан, тридцати пяти лет, была бухгалтером какого-то ООО. Она была известна тем, что всегда наводила страх на регистратуру, непременно устраивая там скандал: то не на то время записывают, то карточку быстро не могут найти. Скандалить она любила и умела. К Борискову она ходила по поводу хронического холецистита и запоров. Довольно большая, полная женщина, как говорят "дебелая", и естественно, искусственная блондинка, она всю жизнь работала бухгалтером, сначала за обычные деньги, а потом, уже став главным и имея опыт работы в куче мелких предприятий, коим с легкостью делала отчеты, за большие деньги. Она никогда не была директором или же владельцем фирмы, но ее ценили за хваткость и, как ни банально это звучит, высокий профессионализм. К тому же за свою рабочую стезю она обросла массой полезных знакомств в самых разных чиновных конторах, включая налоговую и различные фонды и банки, поэтому и тут ей не было равных. Однако ей было уже тридцать пять, а личная жизнь ее все еще не состоялась. Были, конечно, случайные или даже довольно длительные связи: в юности, когда она была свеженькой аппетитной толстушкой, встречалась, наверно, года три с неким женатым мужчиной, который, естественно, обещал однажды развестись и жениться. Теперь она считала это время потерянным, поскольку и юная свежесть и тот женатый человек в конечном итоге безвозвратно ушли. Потом она еще жила, наверное, с год, с неким Толиком, который, кстати, тоже был женат, хотя с женой вроде как и не жил, но, однако, и не разводился. Толику, который все это время ни дня не работал, а якобы постоянно искал работу, лежа на диване, она даже купила машину (чтобы хотя бы халтурил извозом), но тот оказался негодяй и однажды свалил от нее вместе с этой самой машиной. Потом еще был один мужчина значительно старше ее, которому она казалась молодой и привлекательной, но он был уж слишком старый, да и к тому же незарабатываюший нормальных денег – неудачник из интеллигентов, а ей нужно было свое гнездо и дети. Тут уже она ушла от него. Встречалась близко еще с одним типом – мужем подруги, но это была как бы необязательная связь, тщательно скрываемая ими обоими и случавшаяся довольно редко и без особого пыла, без клятв и разговоров о будущем и даже без страстных поцелуев – просто совокупление: "Давай по-быстрому!" и могло происходить где угодно в зависимости от ситуации, нередко стоя. Так уж сложилось. Но какова Нинка Иванова! Нинка была еще толще, но, несмотря на это, у нее был законный муж, который ее безумно любил и ревновал и которому она еще ухитрялась наставлять рога. Нинка утверждала: "Все дело внутри нас, в характере!" Но не говорила Ольге, что проблема еще и в ярости, которая постоянно плескалась у той в глазах и отпугивала от нее мужчин. Ольга Михайловна даже потратила сколько-то денег и на то, чтобы снять "венец безбрачия", но вроде как и сняли венец, но ничего не помогло. Она считала, что это из-за полноты.
Полнота досталась Мовчан в наследство от матери. Одно время Ольга Михайловна пыталась бороться с полнотой, занималась спортом, по средам ходила играть в волейбол, записалась на тренажеры, чтобы и вес согнать и, может быть, с кем-нибудь там познакомиться, но малейшая нагрузка тут же вгоняла ее в страшный пот. Как-то посмотрела на себя потом в раздевалке: лицо красное, как свекла, вся мокрая, хоть выжимай. Пока шла к машине, народ оглядывался на нее на улице (или так ей просто казалось). После тренировки дома объял голод, она села и стала есть. Потом легла. Кровать жалобно пискнула. Подумала: "Господи, любого бы мужика!"
И тогда она решила поехать отдохнуть в Хургаду одна. До этого все ездила с подругой, но подруга, наконец, вышла замуж, и ездить стало не с кем. Поехала одна, но с романтическим настроением. И тут ей, казалось, повезло. На нее запал местный парень – улыбчивый, красивый. Ходил вокруг нее павлином, заливался соловьем. Отдых был замечательный, однако у него были какие-то финансовые проблемы: в ночных ресторанах она платила за обоих, купила и подарила ему дорогие часы, и даже себе дорогой подарок как бы от него тоже она же сама и оплатила. Но с ним единственным она не чувствовала себя толстухой. Наоборот, он постоянно восхищался ее телосложением. Она и раньше слышала, что на востоке худоба у женщин считается болезненным признаком.
Роман закрутился со страшной силой. Уже и обговаривалось знакомство с семьей жениха, но тут случилось досадное препятствие – срочно понадобилось две тысячи долларов для оплаты лечения его матери. Ольга Михайловна, будучи в любовном угаре (а отношения уже стали более чем близкие), достала из гостиничного электронного сейфа ровно две штуки – двадцать сотенок. Полностью разума и тут не теряла, код набрала без него, чтобы не увидел. Радость любимого при виде денег была огромной, Ольга Михайловна тут же была вознаграждена бурным сексом, от которого долго приходила в себя. Потом он вышел из номера за шампанским, и больше она его уже не видела.
Весь роман, который, как представлялось ей, длился уже месяцы, оказалось, продолжался всего-то неделю. Это был жесточайший удар по ее самолюбию и по ее женской сущности. Вполне можно было пережить потерю этих денег – не столь уж были они для нее и велики – потрахаться в отпуске с энергичным мужчиной за две-три штуки, чтобы отпуск не прошел зря – в общем-то, было и неплохо. Тут же ей припомнилось, что люди попадали на арабских брачных аферах и покруче – целые квартиры теряли и вообще все деньги – будто бы под гипнозом. Тут ее пронесло. Однако главная цель ее: создание семьи, своего гнезда – вдруг пошатнулась. И тут она посмотрела на себя в зеркало в ванной и со страхом подумала, что время-то прошло. Женщины в таком возрасте, как она, в роддоме уже давно считаются старородящими. Она долго рассматривала свое отражение в огромном зеркале, перед которым стояла абсолютно голая: белые, в резкий контраст с загорелым животом, большие груди с огромными розовыми ореолами вокруг сосков, полный, со складками жира живот, густая, подбритая, чтобы не вылезала из-под бикини, курчавая поросль волос на лобке, широконосое и широкоскулое "колхозное" лицо – она и сама себе во многом не нравилась. Перед ней была словно каменная баба со скифского кургана. В этом теле только яростные глаза были прекрасны. И зубы. У нее с детства были прекрасные зубы. Они тоже достались ей в наследство от матери.
Кстати, на приеме у Борискова она вела себя очень даже прилично. Они мило пообщались, а потом она ушла. И снова по всей поликлинике прошел будто смерчь. Потом яростно хлопнула дверь и стало тихо.
Следующим за Ольгой Мовчан в кабинет вошел старик, которому, как оказалось, было уже восемьдесят пять лет, с жалобами на кашель и одышку. В целом, мужчин пожилого возраста на приеме было существенно меньше, чем женщин. Однако среди них нередко попадались довольно интересные люди. Приходил один такой пациент, которому тоже было уже под девяносто. Ветеран МВД. И здоровье его в целом для его лет было неплохое, только проявились обычные для такого возраста проблемы со слухом и зрением. В семьдесят пять он бросил курить и считал, что уже очень давно. Второй его жене было за семьдесят. Она была младше его на двадцать лет. Возраст – интересная вещь. Для пятнадцатилетнего юноши и тридцатилетний мужчина – уже старик, а для восьмидесятилетнего – даже шестидесятилетний еще молод. Борисков запомнил слова того ветерана МВД: "Хотя бы лет десять скинуть! Я бы еще ого-го!" Старик этот писал мемуары. Описывал в них всю свою жизнь с самого детства – все, что помнил. У него была бессонница, и он работал ночью, а днем спал.
Борисков так и представил себе. Все в доме ложатся спать, да и кто все – жена, собака и кот, причем кот тут же на столе под лампой. Бывший охранник ГУЛАГа берет ручку, начинает писать, и призраки того ушедшего мира снова приходят к нему. Удивительная вещь: кажется все уже напрочь забыто, а потом вдруг вылезает одна деталь, вторая и за этим вытягивается целый пласт, снова все это будто видишь наяву, и уже кажется, что все это было совсем недавно, и вновь сокрушаешься: какая все-таки короткая жизнь.
Только успеет ли он написать, и можно ли это будет прочитать, или все написанное пропадет?
Люди неизбежно умирают, а их вещи еще какое-то время продолжают жить, тоже постепенно исчезая из этого мира. Собираемые годами коллекции после смерти хозяев распродаются, вещи за бесценок идут в комиссионные магазины, бумаги засовываются в сараи, на чердаки, а потом неизбежно сжигаются. В отсутствие владельцев имущество их вдруг внезапно дряхлеет и приобретает неистребимый запах. Замечено, что дом, когда в нем не живут люди, очень быстро разрушается.
Наглядный был тому пример: школьный учитель Борискова по истории Петр Григорьевич Лобанов, светлая ему память. Всю жизнь он собирал марки и создал выдающуюся коллекцию. Но как только Петр Григорьевич умер – тут же, чуть ли не на следующий день после похорон, дети его отнесли коллекцию в комиссионный магазин – ну, хоть сколько дадут. Для них эта коллекция не стоила ничего – это была только разрисованная бумага, причуда старика. Впрочем, другие коллекционеры тут же воспользовались редкой возможностью получить кое-что ценное почти даром. А ведь Петр Григорьевич свою коллекцию обожал, трясся над ней. Это был его мир – где-то они с такими же фанатиками собирались, менялись, делали гашения, листали каталоги, спорили. И этим он жил все свои последние годы и вечерами допоздна сидел над альбомами за столом, заваленным лупами, пинцетами, зубцемерами, долго рассматривал какую-нибудь редкую марку, улыбался, радовался удачному приобретению, горевал, когда видел оторванный зубчик или слишком грязный размазанный штемпель гашения. А какие были названия каталогов: "Михель", "Ивер"! Каталоги, кстати, тоже тут же сдали в букинистический магазин, а что-то удалось продать через газету "Из рук в руки". Какие-то деньги они выручили, и им показалось, даже немаленькие, поделили и тут же потратили: сын купил подержанную машину, а дочь с зятем – новую кровать.
Считается, что вещи хранят энергию прежних владельцев, поэтому многие люди просто физически не могут пользоваться не то, что чьей-то старой одеждой, но и даже мебелью и, тем более, украшениями из камней. Существует теория, будто бы в кристаллах сохраняются какие-то энергетические влияния. Старые украшения считается возможным носить только в тех случаях, если это подарок дочери от матери или же преподнесенный любимым мужчиной. Говорят, камни хранят энергию их владельцев, поэтому носить чужие драгоценности опасно. Но наверняка существуют какие-то способы очистки. Раньше, говорят, драгоценности закапывали в землю, но не факт, что это помогает. Однако, несмотря ни на что, женщины все равно будут жаждать бриллиантов. Один знакомый Борискова, чтобы уговорить очередную подружку на близкие отношения, обычно покупал в ломбарде какую-нибудь золотую безделушку (колечко или кулончик), чистил ее нашатырем, затем подкупал к нему новый футляр, красиво упаковывал и дарил девушке вместе с букетом. Получалось и относительно дешево и в то же время шикарно. Девушка тут же соглашалась на многое, точнее, на все. Женщины почему-то чрезвычайно падки на золото и цветы. "Что самое смешное, получается не очень-то и дорого", – уверял даритель. И, самое главное, женщине не обидно. Драгоценности ей пригодятся, и в то же время не останется неприятного осадка, что ее купили, как возможно показалось бы, если бы ей просто заплатили за секс деньгами. В результате, она не чувствует себя обделенной.
Впрочем, Борисков знавал людей даже и постарше того восьмидесяти пятилетнего кашлюна. Один из них был известный разведчик (или, точнее, шпион?). Ему было уже аж девяносто пять. В годы войны он был связан с известной "Красной конторой". До сих пор нельзя было понять, был ли он разведчиком, то есть работал на нас, или же шпионом, то есть работал на гестапо, или же на тех и на других. Сразу же после войны "Смершем" было проведено специальное расследование, которое ни к чему не привело, хотя его все равно на сколько-то лет посадили. Была какая-то невнятная информация, что он, будучи связан с французским сопротивлением, сдал оттуда немцам нескольких человек. Любопытно, что он лично знал легендарного шефа гестапо Мюллера. О чем они говорили? В нашем представлении Мюллер это был просто людоед. О чем можно было говорить с людоедом?
При всем том, что подготовка разведчиков, работающих за границей, перед войной была довольно слабая, он там успешно работал вплоть до окончания войны. Теперь он остался один, почти ста лет от роду, и никто уже никогда узнает, кто он был и за кого на самом деле. Он даже русским-то не был, а по легенде вообще считался то ли уругвайцем, то ли парагвайцем. Он хотел, точнее его родственники хотели, чтобы ему за прошлые заслуги непременно дали звание Героя Советского Союза. Суть же дела состояла в том, что Герою ныне от государства положено довольно неплохое ежемесячное содержание. Скорее всего, это был очень хитрый человек, который работал на всех одновременно. В той чудовищной бойне он должен был выжить, и он выжил, несмотря ни на что.
Жизляй рассказывал, что у него однажды лежал с сердечной недостаточностью пациент из Прибалтики, который вообще был бывшим легионером СС. Жизляй в конечном итоге не удержался и вступил с ним в диалог и спор, упомянул и про Нюрнбергский трибунал, казалось бы, поставивший все точки над "и", на что ему бывший легионер ответил примерно так:
– Что вы мне про Нюрнбергский трибунал говорите, доктор! Для меня, что Нюрнбергский, что Гаагский – суть ничего не значат. Собрались победители и стали судить. Там, на таких судах, насудят так, как им скажут сверху. Или не так? Почему я должен свою жизнь оценивать с этим, ими же, победителями, созданным трибуналом? Знаете такую замечательную фразу: "А судьи кто?" Это что, Господь Бог его создал, этот трибунал? Я воевал потому, что ненавидел коммунистический режим, который отнял у меня все и погубил всех моих близких, и воевал я конкретно с ним. А с кем я еще должен был воевать? С немцами? Они-то как раз у меня ничего не отнимали и ничего плохого мне не сделали. У меня все забрали конкретно большевики. Мы тогда воевали вовсе не за немцев – мы воевали за себя, а это значит, к нам нужны и мерки другие. А победи немцы, ведь был бы совсем другой трибунал, например, Московский или Смоленский, и судили бы там с той же помпой Сталина, Молотова, Хрущева и кучу их подельников. И представили бы массу доказательств их несомненной преступной деятельности. Мой родной брат сидел в Казахстане и рассказывал, что их после того, когда они высказали протест, поставили во дворе на колени, а охранник ходил и стрелял в затылок, кому считал нужным. Он что, лучше того немца, который стоял на вышке в Освенциме или где там еще? Гуманнее? Но его почему-то не судили. А почему?
Злобный был такой дед. Жизляй только рот открыл. Впрочем, деда подлечили, и он благополучно выписался.
К этой самой истории можно было бы добавить и следующее. Однажды Борисков осматривал одного немецкого старика явно из военного поколения, опять же с туристического лайнера, привезенного "скорой" с сердечным приступом. У него в левой подмышечной области был будто бы след от ожога, который в истории болезни так и обозначили, хотя он свое героическое прошлое никак не выставлял и удостоверение инвалида войны никому в лицо не тыкал. Дед тот был довольно крепкий. Борисков что-то такое пытался вспомнить, ему когда-то говорили про такие вот шрамы, но точно вспомнил только уже когда старик ушел. Ему когда-то давно рассказали о том, что все члены СС имели подмышкой татуировку с руническим знаком. После войны, чтобы не иметь понятные неприятности, такие татуировки сводили, однако шрам оставался уже навсегда. Мог ли тот старик быть бывшим эсэсовцем? А если и был, то что? Является ли ныне преступлением служба в СС или в немецкой армии во время той войны? Существует ли и каков срок давности? Наполеон – он плохой или хороший? А Иван Грозный? Или уже всем все равно?
Еще наблюдался один пожилой человек с действительно странной судьбой. Он в войну был еще мальчишкой, – четырнадцать лет исполнилось в сорок первом, – и под призыв поэтому он не попал, а поступил в диверсионную школу Абвера для подростков-шпионов. Идея в общем-то была гениальная, которую и наши широко использовали: ребенок и подросток менее приметен и не вызывает чувства опасности в отличие от мужчины от восемнадцати и до сорока. Да и задача была простая: разведка, что где стоит и что где находится, и мелкие диверсии. Узнай в Смерше, что он там вообще учился, в любом случае ему было бы несдобровать: засунули бы в колонию, да и клеймо осталось бы в личном деле на всю жизнь. Поэтому он после войны взял чужие документы и даже никогда не писал в анкете, что вообще был на оккупированных территориях, да особо никто и не обращал внимания, поскольку в партию он вступать не собирался, как и не стремился работать на режимных секретных заводах. И еще сразу после войны он отслужил в армии, и это сыграло в его биографии очистительную роль. Детством никто никогда не интересуется, оно занимает в автобиографии всего-то две фразы: родился там-то, в таком-то году закончил школу. А вот далее уже подробнее, где служил, где работал, где учился, номер диплома…
Главное тогда было не высовываться. Иногда именно случайные проверки выявляли нежданное. Борисков вспомнил, что они как-то были на врачебной практике в одной из периферийных районных больниц. Одно время эта больница была образцово-показательная, ей управлял главный врач, кстати, тоже грузин, человек в административном деле чрезвычайно талантливый. Все сотрудники его просто обожали. В больнице был сделан хороший ремонт, для сотрудников построена загородная база отдыха с баней и лодками. Все было очень хорошо, и вдруг его решили представить к званию Героя социалистического труда. Начали проверять документы, и тут оказалось, что он вообще не имел диплома врача, то есть диплом был им куплен, а по образованию он был просто фельдшером. И тогда его обвинили в присвоении денег, то есть в похищении разницы в зарплате между врачом и фельдшером и, отстранив от должности, посадили. Впрочем, было ясно, что такой человек и в тюрьме не пропадет. А больница тут же после его ухода и захирела. Немного не дотянул он до капитализма, а то бы сейчас процветал бы. А скорее всего он давно уже освободился и процветает в новых условиях.
Кстати, еще один дед Жизляя, который по матери, перед войной был репрессирован и расстрелян, поэтому все, что касается эпохи Сталина, Жизляй не переносил по чисто личным причинам. От деда же Борискова осталась только одна военная фотокарточка, хотя и очень качественная, четкая. На ее обороте была невнятная затертая карандашная надпись, что-то про действующую армию, но дата определялась ясно: 4 апреля 1942 года. Дед, которому было сорок лет, в шинели еще без погон, в зимней шапке и в рукавицах, в начищенных сапогах стоял на фоне стены какого-то то ли дома, то ли, скорее, сарая из досок, набитых вкривь и вкось, – стены, которой ни в какой европейской стране, наверняка, просто днем с огнем и не найдешь. Сзади его видны были стоящие на земле сани – и тоже насколько раздолбанные, что с трудом можно было их и распознать. Во всем была видна такая несусветная бедность, которую трудно себе и представить. Интересно, где же это все-таки было снято? Впереди были еще три года войны. Что-то такое в семье упоминали про Ржев. Подсчитано, что в лесах под Ржевом было убито около миллиона наших солдат. Ныне считается, что это была отвлекающая войсковая операция.
Из того военного поколения приходил еще такой дед Филиппов. Он считался узником фашизма и в качестве компенсации получал от немцев довольно неплохие деньги. Он тоже в войну был еще подростком, и в его рассказах была масса нестыковок, что впрочем, как раз и говорило о том, что нечто реальное в этих рассказах было, а если кое-что и придумано (или, правильнее сказать, домыслено) то лишь только небольшая часть. Ведь даже кино и видеосъемка лишь в какой-то мере являются фактом. Поэтому суды и не любят съемку, а любят свидетелей, хотя свидетели лишь по причине того, что они всего лишь люди, всегда что-то обязательно наврут. Семнадцатилетний Филиппов был угнан в Германию, работал там несколько лет на ферме у хозяина, и рассказывал, что жить там было не только не хуже, чем у них в колхозе, а даже гораздо лучше. Немцев он с тех пор очень уважал. У него там даже подружка была, правда не немка, а француженка, и, с его слов, очень даже хорошенькая. Да и сам он был тогда ничего. Осталась даже фотокарточка. Теперь же это был одышливый старик. Трудно было найти что-то общее с ним теперешним и тем пареньком с фотографии военных лет. В колхоз назад он никак не хотел и собирался уйти со своей француженкой к ней во Францию, но попал в советскую зону оккупацию, и его оттуда уже не выпустили. Француженку выпустили, а его – нет. Маленькая трагедия среди океана человеческого горя.
Еще как-то лежал в отделении такой Мельников Николай Иванович. Это был реально великий человек, бывший партизан, Герой Советского Союза. Дожил до девяноста, и умер не так давно. Теперь его обвиняли в приписках боевых операций и неправомерном получении звания Героя Советского Союза, поскольку награды тогда давали за определенные боевые успехи. Якобы он приписал себе лишнюю пару пущенных под откос эшелонов. Что ж, если и так. Игра, конечно, была рискованная, но ведь она дала прекрасный результат – обеспеченную и почетную старость. Жизнь его вообще была сплошная авантюра. Во время войны долгое время он находился далеко от центральной власти, и в его отряде царил полный произвол. Он был глава этого маленького государства, где единолично казнил и миловал. Он испытал краткое бремя полновластия. Была в отряде одна парочка влюбленных; Мельникову понравилась женщина, и тогда он ее мужа послал на почти заведомо невыполнимое задание, и того там убили, а потом все сделал так, чтобы она после этого стала жить с ним в командирской землянке. Он всегда добивался своего. Кстати, у него самого была законная жена и дети, кажется двое, которые были эвакуированы куда-то в Сибирь. Был ли он злодеем? Война – вообще ужасная вещь. Откуда-то вылезают люди, которые распрекрасно себя чувствуют именно в этой среде, другой им и не надо. Вне войны они, возможно, сидели бы по тюрьмам, маньячили, спивались, а тут они – воины, герои, которым дано легальное право насиловать, убивать и грабить.
Кстати, в войну за сбитый одномоторный самолет пилоту давали тысячу рублей. За эти деньги летчики покупали в соседней с аэродромом деревне литр самогона. За сбитый двухмоторный давали уже две тысячи.
Партизанская война в некоторых местностях строилась на том, что в район выбрасывали диверсионную группу НКВД, которая занималась рекрутированием в партизанский отряд граждан из местного населения, по ходу дела уничтожая полицаев, других представителей оккупационной власти и самих немцев. Наличие мирной обстановки на территории считалось явлением недопустимым. Вся страна воюет, а эти гады ждут, когда их освободят – не выйдет! Все это вело к проведению показательных актов жестокости. В одном из оккупированных районов был негласный договор между населением и немцами: вы нас не трогайте и мы вас не тронем. Там было создано что-то типа коммунизма – общества без денег, с местным самоуправлением, даже театр работал. Никаких партизан не было и в помине. Работала торфяная фабрика, поставки торфа немцам осуществлялись бесперебойно, поэтому необходимости репрессий с ихстороны не было. Все местные жители хорошо понимали, что если есть партизаны – есть и каратели. А в таких ситуациях местным жителям всегда достается. В то же время в одном из соседних районов постоянно убивали полицаев, потом захватили несколько немецких солдат и убили их всех, да еще так: привязали живых к деревьям, облили им ноги бензином и подожгли. Спросите – зачем? Ответ: война, нужно чтобы было еще большее ожесточение. Другие немцы, увидев это, разозлились и сожгли ближайшую деревню вместе со всеми ее жителями. Тут произошло уже обоюдное ожесточение. Перепуганные жители из других деревень потянулись в леса, в партизанские отряды. Поставленная задача была решена.
По каким-то неустановленным причинам, видимо заложенным в саму природу человека, воюющие стороны при некотором существовании вне непосредственного боя имеют тенденцию сближаться, замиряться, брататься и вообще пытаться существовать мирно, по тому же самому принципу "вы нас не трогаете, и мы вас не трогаем". Это обычно происходит на уровне простых солдат, что руководство армиями совершенно не устраивает. По их высокому мнению, тоже вполне, казалось бы, логичному, солдаты должны воевать и погибать. А не тормоши их, так они в окопах напротив друг друга могут сидеть годами: хозяйством, даже женами и детьми обзаведутся, только их корми, да пои. Тут же неизбежно начинает падать дисциплина, идут брожения, появляются ненужные мысли. Людей вообще надо постоянно чем-то занимать. Копание и зарывание ямы имеет свой смысл. Оставь без дела группу молодых парней – они тут же все напьются, обязательно куда-нибудь полезут за девками, начнут играть в карты, мучить кого-нибудь из слабых. Многие чудовищные вещи делаются просто от скуки. Поэтому и происходило постоянное стравливание солдат, которые по каким-то причинам не особо-то и хотели погибать. Нужно было держать их в постоянном напряжении. Например, за восемь дней в начале сентября 1941 года в 11-й дивизии под Ленинградом было убито всего 90 человек. Солдаты писали в письмах: "Наконец-то нам дали немного отдохнуть". Причем, так писали с обеих сторон фронта. Такое маленькое количество потерь обеспокоило начальство, и командир батальона Зотов был снят со своей должности за "необеспечение огневой активности".
Во время провальной Керченской десантной операции комиссар Лев Мехлис приказал убивать всех немцев. В захваченном госпитале зачем-то прибили гвоздями язык немцу-врачу и перебили всех раненых. Объяснимо: око за око, зуб за зуб. Сейчас понятно, что людей мучили специально, чтобы вызвать у них ответную жестокость, ожесточить их. Это обычное дело для любой войны. Важно было помучить, например, засунуть в член стеклянную трубку и там раздавить, вбить кол в глотку и тому подобное, – по сути, совершенно бессмысленные вещи. И кто-то ведь это делал. И тут же катилась ответная реакция: "Ах, вы так, ну, держитесь!" И опять же цель достигнута: люди, как собаки, были стравлены, и им уже не остановиться.
Один ветеран как-то сказал Борискову, тогда еще совсем молодому врачу, относительно того знаменитого партизанского командира: