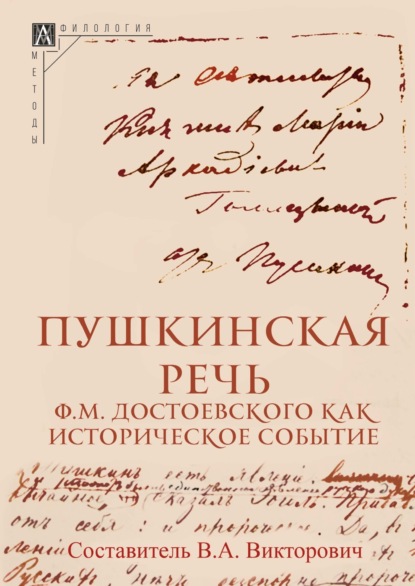По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пушкинская речь Ф. М. Достоевского как историческое событие
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В конце речи Достоевский заговорил как-то особенно громко, вдохновенно, владея теперь безраздельно всей залой. Он высказывал теперь главную свою мысль. Все это поняли, глаза всей залы впились в Достоевского, который перешел к последнему периоду деятельности Пушкина. «Здесь Пушкин нечто чудесное, невиданное до него нигде и ни у кого».
[Были громадной величины гении, разные Шекспиры, Сервантесы, Шиллеры, но нет ни одного, который обладал бы такою способностью к всемирной отзывчивости, как Пушкин. Эту способность, главнейшую способность национальности нашей, он разделяет с народом своим, и тем, главнейше, он и народный поэт! Даже у Шекспира все его итальянцы – те же англичане. Пушкин один мог перевоплотиться вполне в чужую народность. Перечтите «Дон-Жуана», и, если бы не было подписи Пушкина, вы бы не поверили, что писал не испанец! Помните: воздух лаврами и лимонами пахнет!.. А сцена из Фауста – разве это не Германия? А в «Пире во время чумы» – так и слышен гений Англии. А «Подражание Корану», это ли не ислам?..
Достоевский цитировал, приводя на память, целый ряд примеров из стихотворений Пушкина.]
– Да! Пушкин, несомненно, предчувствовал великое грядущее назначение наше. Тут он угадчик, тут он пророк! Стать настоящим русским, может быть, и значит только стать братом всех людей – «всечеловеком»…
[И всё это славянофильство и западничество наше есть только одно великое между нами недоразумение. Вся история наша подтверждает это. Ведь мы всегда служили Европе более, чем себе. Не думаю, что это от неумения наших политиков происходило… Наша, после долгих исканий, быть может, задача и есть внесение примирения в европейские противоречия; указать исход европейской душе; изречь окончательное слово великой гармонии, братского согласия по Христову евангельскому закону…
Тут Достоевский остановился и как-то всплеснул руками, как бы предвидя возражения, но вся зала замерла и слушала его, как слушали когда-то пророков.
– Знаю, – воскликнул Достоевский, и голос его получил какую-то даже непонятную силу, в нем звучал какой-то экстаз, – прекрасно знаю, что слова мои покажутся восторженными, преувеличенными, фантастичными; главное, покажутся самонадеянными: «Это нам-то, нашей нищей, нашей грубой земле такой удел, это нам-то предназначено высказать человечеству новое слово?». Что же? Разве я говорю про экономическую славу? Про славу меча или науки? Я говорю о братстве людей. Пусть наша земля нищая, но ведь именно нищую землю в рабском виде исходил, благословляя, Христос. Да сам-то он, Христос-то, не в яслях ли родился?
Если мысль моя фантазия, то с Пушкиным есть на чем этой фантазии основываться. Если бы Пушкин жил дольше, он успел бы разъяснить нам всю правду стремлений наших. Всем бы стало это понятно. И не было бы между нами ни недоразумений, ни споров. Но Бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и, бесспорно, унес с собой в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь, без него, эту тайну разгадываем…]
Последние слова «И вот мы теперь, без него, эту тайну разгадываем…» Достоевский произнес каким-то вдохновенным шепотом, опустил голову и стал как-то торопливо сходить с кафедры при гробовом молчании. Зала точно замерла, как бы ожидая чего-то еще. Вдруг из задних рядов раздался истерический крик: «Вы разгадали!» – подхваченный несколькими женскими голосами на хорах. Вся зала встрепенулась. Послышались крики: «разгадали! разгадали!», гром рукоплесканий, какой-то гул, топот, какие-то женские взвизги. Думаю, никогда стены московского Дворянского собрания ни до, ни после не оглашались такою бурей восторга. Кричали и хлопали буквально все – и в зале, и на эстраде. Аксаков бросился обнимать Достоевского. Тургенев, спотыкаясь, как медведь, шел прямо к Достоевскому с раскрытыми объятиями. Какой-то истерический молодой человек, расталкивая всех, бросился к эстраде с болезненными криками: «Достоевский, Достоевский!» – и вдруг упал навзничь в обмороке. Его стали выносить.
Достоевского увели в ротонду. Вели его под руки Тургенев и Аксаков; он, видимо, как-то ослабел; впереди бежал Григорович, махая почему-то платком. Зал продолжал волноваться. Я хватился «Энтузиаста», но рядом со мной его уже не было. Я увидел его около самой эстрады, что-то кричащего и машущего руками. «Скептика» [9 - «Скептиком» оказался потом Мих. Петр. Соловьев – впоследствии начальник Главного управления по делам печати, тогда помощник присяжного поверенного (у А. В. Лохвицкого).] притиснули к стене, и он отбивался от двух студентов, что-то ему горячо возражавших.
Вдруг по зале пронесся слух, неизвестно кем пущенный, что с Достоевским припадок падучей болезни, что он умирает. Множество лиц бросились на эстраду. Оказалось – совершенный вздор. Достоевского Григорович вывел под руку из ротонды на эстраду, продолжая махать над головою платком.
Председатель отчаянно звонил и повторял, что заседание продолжается и слово принадлежит Ивану Сергеевичу Аксакову. Зал понемногу успокаивается, но сам Аксаков в страшном волнении. Он вбегает на кафедру и кричит:
– Господа, я не хочу, да и не могу говорить после Достоевского. После Достоевского нельзя говорить! Речь Достоевского событие! Всё разъяснено, всё ясно. Нет больше славянофилов, нет более западников! Тургенев согласен со мною.
Тургенев с места что-то кричит, видимо, утвердительное. Аксаков сходит с кафедры. Слышны крики: «Перерыв! перерыв!..». Председатель звонит и объявляет перерыв на полчаса. Многие расходятся.
Меня также увлекает «Энтузиаст»: «лучшего ничего мы не услышим и не увидим», говорит он сквозь слезы.
Я охотно соглашаюсь; я, как и все, сильно взволнован.
Я также был сильно взволнован речью Достоевского и всей ее обстановкой. Многого я тогда не понял, и многое потом, при чтении речи, показалось мне преувеличенным. Но слова Достоевского, а главное – та убедительность, с какою речь была произнесена, та вера в русское будущее, которая в ней чувствовалась, глубоко запала в душу.
Впоследствии много раз, в тяжелые минуты, особенно в ужасное время революции нашей, при соприкосновении с действительным, а не воображаемым русским народом и неприглядною русскою действительностию я готов был потерять веру в свой народ, в будущность России, во всё русское… И каждый раз я мысленно обращался к вдохновенным словам Достоевского, сказанным в обстановке старой Москвы, и, как Антей от прикосновения к родной земле, я почерпал новые силы для веры, несмотря на все испытания, в русский народ и в его великое будущее…
С. С. Бобчев
Это было в начале июня 1880 года. Я был студентом юридического факультета Московского университета и, сдав государственные экзамены, собирался уезжать в Болгарию. В виду предстоявшего торжественного освящения памятника Пушкину в Москве, вызывавшего большое общественное воодушевление, я решил отложить свой отъезд на несколько дней.
В качестве сотрудника «Московских ведомостей» я часто посещал редакцию этой газеты, где встречался, между прочим, с известным философом и писателем Константином Николаевичем Леонтьевым, большим другом Каткова и сотрудником его изданий: «Московских ведомостей» и «Русского вестника». Леонтьев был также близким другом и почитателем Достоевского. В то время Достоевский заканчивал печатание «Братьев Карамазовых» в «Русском вестнике».
[Были громадной величины гении, разные Шекспиры, Сервантесы, Шиллеры, но нет ни одного, который обладал бы такою способностью к всемирной отзывчивости, как Пушкин. Эту способность, главнейшую способность национальности нашей, он разделяет с народом своим, и тем, главнейше, он и народный поэт! Даже у Шекспира все его итальянцы – те же англичане. Пушкин один мог перевоплотиться вполне в чужую народность. Перечтите «Дон-Жуана», и, если бы не было подписи Пушкина, вы бы не поверили, что писал не испанец! Помните: воздух лаврами и лимонами пахнет!.. А сцена из Фауста – разве это не Германия? А в «Пире во время чумы» – так и слышен гений Англии. А «Подражание Корану», это ли не ислам?..
Достоевский цитировал, приводя на память, целый ряд примеров из стихотворений Пушкина.]
– Да! Пушкин, несомненно, предчувствовал великое грядущее назначение наше. Тут он угадчик, тут он пророк! Стать настоящим русским, может быть, и значит только стать братом всех людей – «всечеловеком»…
[И всё это славянофильство и западничество наше есть только одно великое между нами недоразумение. Вся история наша подтверждает это. Ведь мы всегда служили Европе более, чем себе. Не думаю, что это от неумения наших политиков происходило… Наша, после долгих исканий, быть может, задача и есть внесение примирения в европейские противоречия; указать исход европейской душе; изречь окончательное слово великой гармонии, братского согласия по Христову евангельскому закону…
Тут Достоевский остановился и как-то всплеснул руками, как бы предвидя возражения, но вся зала замерла и слушала его, как слушали когда-то пророков.
– Знаю, – воскликнул Достоевский, и голос его получил какую-то даже непонятную силу, в нем звучал какой-то экстаз, – прекрасно знаю, что слова мои покажутся восторженными, преувеличенными, фантастичными; главное, покажутся самонадеянными: «Это нам-то, нашей нищей, нашей грубой земле такой удел, это нам-то предназначено высказать человечеству новое слово?». Что же? Разве я говорю про экономическую славу? Про славу меча или науки? Я говорю о братстве людей. Пусть наша земля нищая, но ведь именно нищую землю в рабском виде исходил, благословляя, Христос. Да сам-то он, Христос-то, не в яслях ли родился?
Если мысль моя фантазия, то с Пушкиным есть на чем этой фантазии основываться. Если бы Пушкин жил дольше, он успел бы разъяснить нам всю правду стремлений наших. Всем бы стало это понятно. И не было бы между нами ни недоразумений, ни споров. Но Бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и, бесспорно, унес с собой в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь, без него, эту тайну разгадываем…]
Последние слова «И вот мы теперь, без него, эту тайну разгадываем…» Достоевский произнес каким-то вдохновенным шепотом, опустил голову и стал как-то торопливо сходить с кафедры при гробовом молчании. Зала точно замерла, как бы ожидая чего-то еще. Вдруг из задних рядов раздался истерический крик: «Вы разгадали!» – подхваченный несколькими женскими голосами на хорах. Вся зала встрепенулась. Послышались крики: «разгадали! разгадали!», гром рукоплесканий, какой-то гул, топот, какие-то женские взвизги. Думаю, никогда стены московского Дворянского собрания ни до, ни после не оглашались такою бурей восторга. Кричали и хлопали буквально все – и в зале, и на эстраде. Аксаков бросился обнимать Достоевского. Тургенев, спотыкаясь, как медведь, шел прямо к Достоевскому с раскрытыми объятиями. Какой-то истерический молодой человек, расталкивая всех, бросился к эстраде с болезненными криками: «Достоевский, Достоевский!» – и вдруг упал навзничь в обмороке. Его стали выносить.
Достоевского увели в ротонду. Вели его под руки Тургенев и Аксаков; он, видимо, как-то ослабел; впереди бежал Григорович, махая почему-то платком. Зал продолжал волноваться. Я хватился «Энтузиаста», но рядом со мной его уже не было. Я увидел его около самой эстрады, что-то кричащего и машущего руками. «Скептика» [9 - «Скептиком» оказался потом Мих. Петр. Соловьев – впоследствии начальник Главного управления по делам печати, тогда помощник присяжного поверенного (у А. В. Лохвицкого).] притиснули к стене, и он отбивался от двух студентов, что-то ему горячо возражавших.
Вдруг по зале пронесся слух, неизвестно кем пущенный, что с Достоевским припадок падучей болезни, что он умирает. Множество лиц бросились на эстраду. Оказалось – совершенный вздор. Достоевского Григорович вывел под руку из ротонды на эстраду, продолжая махать над головою платком.
Председатель отчаянно звонил и повторял, что заседание продолжается и слово принадлежит Ивану Сергеевичу Аксакову. Зал понемногу успокаивается, но сам Аксаков в страшном волнении. Он вбегает на кафедру и кричит:
– Господа, я не хочу, да и не могу говорить после Достоевского. После Достоевского нельзя говорить! Речь Достоевского событие! Всё разъяснено, всё ясно. Нет больше славянофилов, нет более западников! Тургенев согласен со мною.
Тургенев с места что-то кричит, видимо, утвердительное. Аксаков сходит с кафедры. Слышны крики: «Перерыв! перерыв!..». Председатель звонит и объявляет перерыв на полчаса. Многие расходятся.
Меня также увлекает «Энтузиаст»: «лучшего ничего мы не услышим и не увидим», говорит он сквозь слезы.
Я охотно соглашаюсь; я, как и все, сильно взволнован.
Я также был сильно взволнован речью Достоевского и всей ее обстановкой. Многого я тогда не понял, и многое потом, при чтении речи, показалось мне преувеличенным. Но слова Достоевского, а главное – та убедительность, с какою речь была произнесена, та вера в русское будущее, которая в ней чувствовалась, глубоко запала в душу.
Впоследствии много раз, в тяжелые минуты, особенно в ужасное время революции нашей, при соприкосновении с действительным, а не воображаемым русским народом и неприглядною русскою действительностию я готов был потерять веру в свой народ, в будущность России, во всё русское… И каждый раз я мысленно обращался к вдохновенным словам Достоевского, сказанным в обстановке старой Москвы, и, как Антей от прикосновения к родной земле, я почерпал новые силы для веры, несмотря на все испытания, в русский народ и в его великое будущее…
С. С. Бобчев
Это было в начале июня 1880 года. Я был студентом юридического факультета Московского университета и, сдав государственные экзамены, собирался уезжать в Болгарию. В виду предстоявшего торжественного освящения памятника Пушкину в Москве, вызывавшего большое общественное воодушевление, я решил отложить свой отъезд на несколько дней.
В качестве сотрудника «Московских ведомостей» я часто посещал редакцию этой газеты, где встречался, между прочим, с известным философом и писателем Константином Николаевичем Леонтьевым, большим другом Каткова и сотрудником его изданий: «Московских ведомостей» и «Русского вестника». Леонтьев был также близким другом и почитателем Достоевского. В то время Достоевский заканчивал печатание «Братьев Карамазовых» в «Русском вестнике».
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: