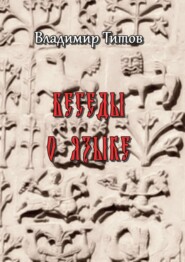По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Одна нога здесь… Книга первая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вот так и остался Яромилыч сам по себе, живёт пусть и один, так зато в почете и уважении. Человек, говорят, ко всему привыкает, вот и он привык к тому, что есть. Хоть и немало времени после его возвращения прошло, а опять нрав на старое повернулся, снова балагурить начал, как в молодости, снова песни веселые запел. И соседям это по нраву, когда под боком не угрюмый однонога обитает, а весельчак, лёгкий на всякую помощь, хоть делом, хоть советом. Годков тем чином пробежало долой немало, стар стал Яромилыч, никто уж и не помнил, небось, что некогда его Вятшей звали, спина согнулась, головушка буйная облысела, как клен по осени, зубов осталось не так уж много, но чтоб жевать – в самый раз. Обзавелся Яромилыч палочкой хорошей, чтоб хромать сподручней было. Сам её из ветки могучего дуба вырезал. Намаялся, что не приведи Боги. Дуб, должно быть, на рудной жиле вырос, такой крепкий оказался. Зато теперь в любую непогоду с ней ходить самое милое дело: не снашивается, не ломается, ни древоточец её не берет, ни сырость. Во какая трость!
Макушку у палочки вырезал он в образе бородатого Велеса, такого, что видел в детстве на посохе у бродячего волхва, ночевавшего в их доме. Всю ночь протетешкался он тогда с посохом тем, разговаривая с Велесом и представляя, что тот ему отвечает. В сурово открытые уста пытался вложить крошки, чтоб Боженька поел, а потом таскал посох по всему дому, чтоб Он познакомился, как и где семья Вятшина поживет. Но увы-увы… Много годков спустя палочка запропала, всего-то разок оставил её на пороге, забыл в дом внести. А на следующий день хвать-похвать, а её и нету нигде. Толи покрал кто, толи Велес разобиделся, и прибрал вещицу…
И вот в то летнее ласковое утречко, ничем не предвещавшее грозные события, что последовали вскоре, Яромилыч вышел на крылечко, потягиваясь и зевая. Верная палочка (новая, уже без бородатого лика Вещего Бога) была как всегда при нем. За пазухой, немилосердно холодя старое тело, плескалась полнёхонькая медовухой кожаная пляшка. Одет он был обыкновенно, как и большинство зибуньских мужичков его лет: синие холщовые порты, пусть и латанные, но ещё как новые, чистая, мало-мальски вышитая рубаха да пояс с кистями. Приставив ко лбу мозолистую руку, дед глянул на солнышко, только-только встающее от краезёма[1 - Горизонт.].
– Да, – протянул про себя, – Чего-то я сегодня совсем уж рано вскочил.
Ночь выдалась какая-то неспокойная, мерещилось что-то из прошлого, из того случая с ногой. А когда совсем ото сна проснулся, вдруг ощутил Яромилыч, что у него жутко чешется пятка. И не просто пятка, а пятка на отсутствующей ноге! Яромилыч недоумевал. Вот ведь хреновина! Никогда ничем о себе пропавшая ноженька не напоминала (Яромилыч слыхал, что отсечённые руки-ноги порой ноют да зудят, но сам за всю свою одноногую жизнь ни разу такого не переживал и, как полагается, почитал такие рассказы досужей брехнёй), а тут вдруг зачесалась. Да ещё как! Чтобы хоть как-то утихомирить нещадный зуд, он почесал существующую пятку, чем только ещё более раззадорил воображаемую чесотку.
– Ну, что мне теперь, калабашку чесать прикажете? – недоумевал он.
Это было заведомо бессмысленно, но Яромилыч на всякий случай почесал и её. Не просто почесал, а крепко поскреб по деревяшке со всех сторон. Толку никакого. Отсутствующая пятка чесаться и не думала переставать. И вот Яромилыч, крепко стиснув зубы, вышел из дому, намереваясь посидеть на завалинке, не обращая внимания на зуд, в надежде, что этакая досада какое-то время погодя пропадет сама по себе. Пляшка с медовухой должна была помочь в этом начинании, а если бы и не помогла, то за второй сходить не долго – всего-то два шага до дома. Время шло, утро помалу разгоралось, пастух погудел рогом, собрал коров и убрел на луга, соседки к колодцу, что стоял через три дома от яромилычева, потянулись. Мужички по делам да по огородам разбрелись, детвора на улицу играть высыпала. Когда тени от домов стали показывать полдень, а пляшек, валявшихся кучкой рядом с завалинкой, насчитывалось уже целых пять, Яромилыч понял, что чесотка не уйдет.
– Хорошо, – решил он. – Попробуем скумекать, от чего этакая закавыка приключилась.
Причин, наверняка, могло быть множество, но ни одна из них в голову не приходила. Яромилыч одна за одной перебирал все мысли подряд, пока, наконец, не вспомнил о приметах. Приметы однозначно толковали зуд в пятках, как предвестие дальней дороги, что в случае Яромилыча было явной ерундой. После того случая он зарёкся куда-либо отлучаться из родных Зибуней и посмеялся бы в лицо любому, скажи тот, что идти – причем далеко – все-таки придётся. Впрочем, примета приметой, но говорилось в ней о чесотке в настоящих пятках, а у Яромилыча настоящая-то как раз и не чесалась.
– Это, несомненно, знак, – продолжил размышления дед. – Но вот что он предвещает на самом деле, так это без полпляшки и не разберешься.
Глянув на опорожненные пляшки, Яромилыч устыдился, ибо сегодняшний «пьяный урок» он давно уже перевыполнил.
– Но, с другой стороны, такие знаки тоже бывают не каждый день! – строго заметил Яромилыч неизвестно кому, и отправился добывать необходимые полпляшки.
Долгие размышления, увы, не привели ни к каким выводам. Было совершенно ясно, что своим умом тут не обойтись, и нужно искать того, кто бы мог разгадать примету. Точнее даже не найти, а идти к тому, кто наверняка знает, в чем дело. И не к тому, а к той. К колдунье Любаве. Очень не хотелось бы Яромилычу идти к ней. Видят Боги, тяжело это…
Не все, кто Вятшу молодым помнил, позабыли о нем. Любава-краса, когда Вятша после возвращения у себя дома отсиживался да горе горевал, частенько мимо его окон прогуливалась, рядом на завалинке сиживала. Раньше-то он мимо её окошек сам ходил, бывало и чарочку выпивал, да все это не всерьез было. Всем Любава хороша, статью вышла, рукодельная, словно с иголкой в руке родилась, а не все гладко. Коса как смола черна, глазища зеленые, как у зверя-кошки и глубокие, как море-окиан. Бабка у нее была колдунья, вот внучка мастерство потихоньку, говорили, и перенимала. Так что, хоть и ходил мимо Вятша, да больше для виду, а чтоб и впрямь полюбилась – так не сказал бы. Скорее даже боязно было, а ведь и отступать нельзя. Парни-то вон, сотоварищи разлюбезные, то и дело подкалывают:
– К ведьминой внучке клинья побивает! Экий ухарь!
Вернувшись из своего несчастливого похода, Вятша на окрай города переселился, а она и туда дорожку протоптала. Все уж и без намека понятно.
– Хороша парочка выйдет, – горько усмехался тогда Вятша. – Ведьмачка да калека одноногая. Да нас же весь город бояться будет!
Бабка, правда, Любаву предупреждала, что ничего у нее не выйдет, и предлагала применить такой приворот, чтоб уж до самой смерти держался, каким она, в своё время, деда её приворожила. Да только внучка вся в бабку пошла, не переупрямить – решила по-честному любви добиваться, судьбу чтоб переспорить:
– Или Вятша замуж позовет, или одна век проживу!
Устал Яромилыч от её хождений, случавшихся чуть ли не через день. И ладно бы ещё возле его дома крутилась, так нет же. Будет он где у соседей печку бить, так и Любава рядом, всё в глаза заглянуть пытается. А в её глаза, ей-ей, лучше не заглядываться, затянет в этот омут зеленый с головой и готов у ведьмы жених. Соседи тоже примечать стали:
– Что это, Яромилыч, ведьмина внучка за тобой как привязанная ходит? Не приворожил ли часом?
В общем, решился Яромилыч на обстоятельный разговор. Вечером за оконце глянул, ну точно, вон она, на завалинке сидит, печальная, худющая, одни только глаза на лице посверкивают. Вышел он во двор, в дом Любаву позвал. Напроть себя за стол усадил, долго с духом собирался, слова подходящие искал, чтоб объяснить, но и не обидеть при том совсем уж жестоко. А как ей скажешь, чтобы шла домой и больше не показывалась, когда она на тебя беспомощно глазища свои таращит, с надеждой и, чёрт её побери, с любовью?! Вот как, а?
Вскочил Яромилыч со скамьи, и Любава вслед за ним, а он того и не замечает вовсе, все с духом собирается, по избе мечется.
– Ты, знаешь, чего, Любава, ты это, ну сама погляди, что получается… – начал было он, найдя наконец хоть какую-то слабую мыслишку от которой можно было оттолкнуться.
Начал говорить да и осекся. Пока он от печи до двери и обратно шагал, скинула Любава с себя рубаху с вершником, в чем мать родила у постели яромилычевой стала, очи вниз потупила, и косу свою черную распускает прядь за прядью. Яромилычева постель, как у заправского холостяка, никогда застелена не была, и сейчас прямо-таки манила лечь на нее, подмяв нежное женское тело. От наготы Любавиной в избе словно светлее стало, вот ведь и впрямь ведьмина внучка! Взгляд Яромилыча так и прилип к груди её, округлой и вовсе не большой, внутри все затомилось, жаром пыхнуло. И не мудрено ведь, сколько уж времени совсем одинешенек! Хоть и калека, так ведь ногу потерял, а всё остальное при нем.
– Любавушка! – ахнул он, шагая ближе.
В глазах помутнело, дыханье словно украли – ни вдохнуть, ни выдохнуть, стиснуло ребра. А Любава косу дорасплела, чёрный ворох волос по плечам рассыпала и очи подняла. Глянул Яромилыч в зелень глаз и понял – пропал! Как есть пропал! Любавина краса так и зовет.
– Любавушка, что ж ты делаешь-то…
А она сама ближе подступает, зовет голосом нежным:
– Вятша, друженька…
Давно уж его Вятшей не кликали. Дружки-закадыки, с которыми с бесштанных лет знался – и те всё больше Яромилыч да Яромилыч, словно он им в отцы годился.
Как уж он рубаху скидывал, стеснялся ли калабашки, что заместо ноги, ремнями пристегнула была, как Любаву хватал за бок крутой, ничего этого Яромилыч и помнить не помнил, потому как голову потерял напрочь. Было все удивительно, красиво и нежно. Любава, словно, не колдовским ухваткам у бабки своей училась, а древнему искусству любви. А может колдовство это, бабское, и есть умение так вот любить? И взлетая на могучей волне в небесную высь, мнилось Яромилычу, что не зря Любава и любовь – от одного корня. Что Любава, верно, и есть любовь! Тугие пряди смоляных волос, нежно пахнущие хвоей, гладили его плечи, Любавины руки, словно соперничая друг с другом, ласкали Яромилыча, – нет, не Яромилыча, Вятшу! – сама она творила нечто незабываемое, змейкой ластясь по нему, грудь о грудь. Никогда ещё не было ему так хорошо, ни с одной из тех, что были когда-то допрежь, – да полноте, были ли другие? Есть ли? Не было никакого прошлого, и не виделось грядущее, было только здесь и сейчас. И хотелось, чтобы оно длилось вечно. Забыть эту неповторимую ночь было невозможно, но счастье исчезло также скоро, как и явилось…
Когда Яромилыч, полный невыразимой радости, проснулся, уверовав, что отныне начинается у него новая жизнь, рядом в постели никого не было. О присутствии женщины можно было лишь догадываться по витавшему в воздухе чуть слышимому запаху хвои. Он кинулся искать Любаву в её старом доме, в той части Зибуней, где и сам жил раньше. Многие удивлялись, завидев его снова, а бабка Любавы дала от ворот поворот:
– Неча, тебе, парень, тутова шляться. Нет Любавки, и весь сказ. И когда будет – не знаю. Из городу с утра подалась. Не ты ли, хромонога, отшил её? Пришла как не своя, вся качается, и лица на ей нет. А потом узелок собрала, распрощалась, и тикать из дому родного, словно гнался за ней кто. Ты смотри, коли внучку мою заобидел, так я тебе не спущу. Только от нее вестка придет, живо будет тебе сухота с ломотою!
Видя, что зловредная старуха того и гляди так заведется, что и весточки от Любавы ждать не станет, Яромилыч поспешил назад. Случившееся было не понятно ни с какого боку. Что за напасть нашла на Любаву, ведь всё было так хорошо? Не только ему, но и ей, уж это Яромилыч, бывалый прежде сердцеед, видел своими глазами. Они и о будущем поговорить не успели, хотя, чего греха таить, в перерывах между ласками, грезил он о том, как вместе жить будут.
– Вот ведь не поймешь этих баб! – Серчал Яромилыч не знамо на кого, но не на Любаву это точно. – Сначала вьются, как будто медом намазано, а потом бегут, как заяц от тени!
Разбередила душу, пробудила тело, заронила надежду, на то, что все отныне будет по-другому. А потом исчезла в один миг.
Он не раз хаживал к Любавиной бабке, выспрашивал её – как там она? Та поначалу гоняла докучливого гостя, грозя то обсадить болячками, то обернуть жабой, но потом попривыкла и, хоть подробностей не пересказывала, но стала все ж отвечать, что у внучки всё в порядке. Хотел Яромилыч попросить бабку письмо от него ей переправить, а та лишь усмехнулась и разговор на другое перевела. Дак и кто их знает, этих ведьмачек, может они промеж себя не письмами общаются, а иначе как? Погоревал Яромилыч с полгода-год, а потом и забывать помаленьку стал. Новая рана затянулась поверх старых, он своими делами занялся и недосуг вышло через весь город каждый день туда-сюда мотаться.
Любава вернулась где-то через три года. Не скоро эта весть дошла до Яромилыча. Там кто-то слово обронил, на ярмарке ещё от кого-то услышал. За три года много воды утекло, но когда понял он, что о Любаве речь идет, екнуло сердце памятливое. В тот же день к её двору засобирался. У ворот мялся долго, стесняясь и своего мальчишечьего порыва, и деревянной ноги.
– Ну что я ей скажу? Что, вот мол, прибыл? Прошу любить и жаловать? Так ведь это не я пропадал, а она сама. А с порога с расспросами кидаться – ты где все это время была? – так ведь мы не муж с женой, обещанья друг другу не давали.
Додумать все остальное он не успел. Ворота сами отомкнулись и Любава вышла к нему. Яромилыч застыл как вкопанный, не зная, что теперь – кинуться обнимать ненаглядную, или пуститься в пляс, или может закружить её на руках, несмотря на то, что одной ноги как не бывало? И снова Любава опередила его. Она тихонько подошла к нему близко-близко. Все та же, но в чем-то неуловимо переменившаяся. Подняла на него свои зеленые глазищи, и узрев таящуюся там печаль, понял Яромилыч, – так же ясно понял, как и в ту ночь, – что ничего у них больше не будет. Кончилось. Любава нежно прижалась к нему, в душе ещё шевельнулась надежда, что это он, дурак, не так её понял, что все совсем наоборот. Но потом она жарко прильнула к его губам и тотчас отпрянула назад. Это всё! – понял Яромилыч. Что же ты? – хотелось кричать ему, бросая ей в лицо обвинения, – Другого нашла себе полюбовничка? Получше? Да? Без деревянной ноги? Но Любава, словно упреждая неосторожные слова, которые, вырвавшись, ранят хуже ножа, упорхнула во двор и ворота за ней затворились. Не пожелала по худому расстаться, – стало ясно Яромилычу. Делать ему здесь было больше нечего и он, сдержав все рвущиеся наружу злые и ненужные обиды, понуро пошёл домой.
Больше с ней Яромилыч не виделся ни разу, что, конечно, удивительно, ибо Зибуня городок небольшой, все там рано или поздно друг с другом сталкиваются, и тем более, что после того как Любавина бабка отправилась к пращурам, её место заняла сама Любава. Наверное, весь город перебывал у нее, ища лечения от хворей или помощи в разных делах, но только Яромилыч никогда к ней не обращался. Болеть ему не случалось, видать Боги решили, что потерять одну ногу было для него более чем достаточно. А к тем делам, что у него имелись, да заботам, что случались, колдовская подмога не надобна. Точнее говоря, была не надобна, а вот теперь, вишь ты, приходилось идти за помощью.
ГЛАВА 2
Яромилыч приложил бы любые усилия, чтобы не ходить к Любаве, или, хотя бы, отложить на как можно дальний срок этот поход к ней, но терпеть некстати случившуюся чесотку было свыше человеческих сил. Сердечная рана, конечно, за эти годы затянулась, но всё же, иной раз там, под рубцом, порой сильно ныло. Какое-то чувство потери мучило, когда случалось вспоминать годы минувшие. Ведь вся жизнь могла сложиться по-иному…
– Эх, Любава, Любава! – Бормотал Яромилыч, запирая калитку на крючок. – Какая ты стала нынче-то?
Воображение рисовало настоящую Бабу-Ягу, с единственным (и кривым при этом) клыком во рту, щедрой россыпью бородавок на носу и подбородке, и обязательно нечесаной седой прядью, выбившейся из-под грязного засалившегося платка. Примерно так выглядела Любавина бабка, а яблоко от яблоньки, как известно, недалеко падает.
– Ничего! – Успокаивал себя старик, с тревогой ощущая, что сердце стало колотиться сильнее, причем вовсе не от предвкушения встречи после долгой разлуки. – Ничего! Чай не съест.
Было уже за полночь или около того, когда ноги сами вывели его знакомым путем к забору, подле которого они – сколько уж лет назад! – распрощались так странно.
– Ничуть не удивлюсь, если она стоит за забором и поджидает, – невесело усмехнулся Яромилыч, замедляя шаг.
За забором его никто не поджидал, но при его приближении ворота сами распахнулись навстречу, протяжно скрипнув несмазанными петлями. Яромилыч только сейчас до конца осознал, куда его черти понесли на ночь глядя! И ведь на улице ни души, а окна у соседей ставнями закрыты. И при себе ни чеснока, ни серебряной иголки, ничегошеньки нет, чтобы от ведьмы отпереться-оберечься, коли нужда настанет! Дед вдохнул побольше воздуху, прошептал под нос славление к Велесу, защищающему малых и старых, что в неразумии своем малым уподобляются, зажмурился и шагнул. Ничего не случилось ни сразу, ни несколько погодя. В слюдяном окошке мерцал огонек лучины, вокруг дома всё тихо. Пока Яромилыч мялся во дворе, ворота позади него резко захлопнулись, лязгнул закрывающийся запор и в заключение вдвинулся в пазы засов. Путь к отступлению, как нетрудно догадаться, был отрезан. Вот ведь, ведьмаческие шуточки!