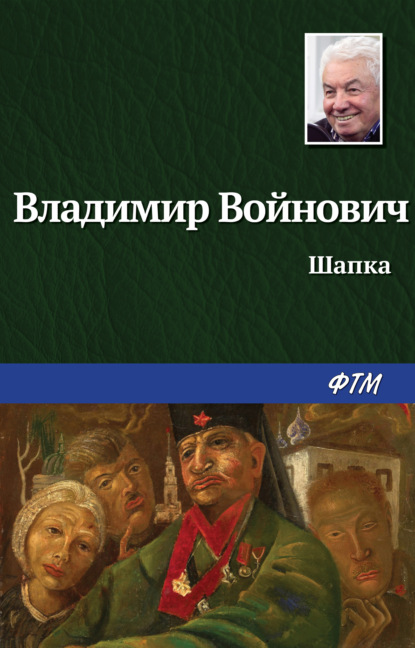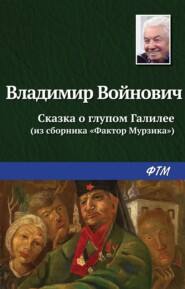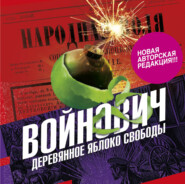По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Шапка
Год написания книги
1987
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Шапка
Владимир Николаевич Войнович
Владимир Войнович
Шапка
Когда Ефима Степановича Рахлина спрашивали, о чем будет его следующая книга, он скромно потуплял глаза, застенчиво улыбался и отвечал:
– Я всегда пишу о хороших людях.
И всем своим видом давал понять, что пишет о хороших людях потому, что сам хороший и в жизни замечает только хорошее, а плохого совсем не видит.
Хорошими его героями были представители так называемых мужественных профессий: геологи, гляциологи, спелеологи, вулканологи, полярники и альпинисты, которые борются со стихией, то есть силой, не имеющей никакой идеологической направленности. Это давало Ефиму возможность описывать борьбу почти без участия в ней парткомов, райкомов, обкомов (чем он очень гордился) и тем не менее проталкивать свои книги по мере написания, примерно по штуке в год, без особых столкновений с цензурой или редакторами. Потом многие книги перекраивались в пьесы и киносценарии, по ним делались теле – и радиопостановки, что самым положительным образом отражалось на благосостоянии автора. Его трехкомнатная квартира была забита импортом: румынский гарнитур, арабская кровать, чехословацкое пианино, японский телевизор «Сони» и финский холодильник «Розенлев». Квартиру, кроме того, украшала коллекция диковинных предметов, привезенных хозяином из многих экспедиций. Предметы были развешаны по стенам, расстелены на полу, расставлены на подоконниках, на книжных полках, на специальных подставках: оленьи рога, моржовый клык, чучело пингвина, шкура белого медведя, панцирь гигантской черепахи, скелеты глубоководных рыб, высушенные морские ежи и звезды, нанайские тапочки, бурятские или монгольские глиняные фигурки и еще всякая всячина. Показывая мне коллекцию, Ефим почтительно комментировал: «Это мне подарили нефтяники. Это мне подарили картографы. Это – спелеологи».
В печати сочинения Рахлина оценивались обычно очень благожелательно. Правда, писали о них в основном не критики, а те же самые спелеолухи (так всех мужественных людей независимо от их реальных профессий именовал друг Ефима Костя Баранов). Отзывы эти (я подозреваю, что Ефим сам их и сочинял) были похожи один на другой и назывались «Нужная книга», «Полезное чтение», «Это надо знать всем» или как-нибудь в этом духе. Они содержали обычно утверждения, что автор хорошо знаком с трудом и бытом изображаемых героев и достоверно описывает романтику их опасной и нелегкой работы.
Во всех его рассказах (раньше Ефим писал рассказы), повестях (потом стал писать повести) и романах (теперь он пишет только романы) действуют люди как на подбор хорошие, прекрасные, один лучше другого.
Ефим меня уверял, что описываемые им персонажи и в жизни такие. Будучи скептиком, я в этом глубоко сомневался. Я знал, что люди везде одинаковы, что и на дрейфующей льдине среди советского коллектива есть и партийные карьеристы, и стукачи, и хоть один кадровый работник госбезопасности тоже имеется. Потому что в условиях изоляции и долговременного отрыва от родины у некоторых людей даже очень большого мужества может появиться желание выразить какую-нибудь идейно незрелую мысль или рассказать сомнительный в политическом отношении анекдот. Не говоря уж о том, что эта самая льдина может придрейфовать куда угодно и нет никакой гарантии, что ни у кого из хороших людей не хватит мужества остаться на чужом берегу.
Когда я высказывал Ефиму это свое циничное мнение, он даже позволял себе сердиться и горячо уверял меня, что я ошибаюсь, в суровых условиях действуют другие законы и мужественных людей судить по обычным меркам нельзя. «В каком смысле нельзя? – спрашивал я. – В том смысле, что не найдется среди них ни одного, который сбежит? Не найдется ни одного, который погонится за сбежавшим? А если найдутся и тот, и тот, – кто из них хороший, а кто плохой?»
В конце концов Ефим просто замолкал и поджимал губы, показывая, что спорить со мной бесполезно, для того чтобы понимать высокие устремления, надо самому обладать ими.
Во всех его романах непременно случалось какое-нибудь центральное драматическое происшествие: пожар, буран, землетрясение, наводнение со всякими к тому же медицинскими последствиями вроде ожогов, обморожений, откачки утопленников, после чего хорошие люди бегут, летят, плывут, ползут на помощь и охотно делятся своей кровью, кожей, лишними почками и костным мозгом или проявляют свое мужество каким-то иным, опасным для здоровья способом.
Сам Ефим был мужественным, но не храбрым. Он мог тонуть в полынье, валиться с какой-нибудь памирской скалы, гореть при тушении пожара на нефтяной скважине, но при этом всегда боялся тринадцатых чисел, черных кошек, вирусов, змей, собак и начальников. Начальниками он считал всех, от кого зависело дать ему что-то или отказать, поэтому в число начальников входили редакторы журналов, секретари Союза писателей, милиционеры, вахтеры, билетные кассиры, продавцы и домоуправы.
Обращаясь к начальникам с большой или маленькой просьбой, он при этом делал такое жалкое лицо, что отказать ему мог только совершеннейший истукан.
Он всегда просил, вернее, выпрашивал все, начиная от действительно важных вещей, например переиздания книги, до самых ничтожных вроде подписки на журнал «Наука и жизнь». А уж как он хлопотал о том, чтобы «Литературка» отметила его пятидесятилетие юбилейной заметкой с фотографией, как боролся за то, чтобы ему дали хоть какой-нибудь орден, – об этом можно написать целый рассказ или даже повесть. Я писать ни того ни другого не буду, скажу только, что битву свою Ефим выиграл лишь отчасти: заметка появилась без фотографии и без всяких оценочных эпитетов, а вместо ордена ему в порядке общей очереди была вручена Почетная грамота ВЦСПС.
Впрочем, замечу к слову, кое-какие металлические знаки отличия у Ефима все же имелись. В конце войны, прибавив себе в документах пару лет, Ефим (он уже тогда был мужественным) попал в армию, но до фронта не добрался, был ранен во время бомбежки эшелона. Это его неудачное участие в войне было отмечено медалью «За победу над Германией». Двадцать или тридцать лет спустя ему за то же самое дали юбилейную медаль, в семидесятом году он получил медаль в честь столетия Ленина, а в семьдесят первом – медаль «За освоение нефтегазовых месторождений Западной Сибири». Эту награду Ефиму выдал нефтегазовый министр в обмен на экземпляр романа «Скважина», посвященного, между прочим, не западносибирским, а бакинским нефтяникам. Упомянутые медали украшали ефимовскую анкету и в биографических данных позволяли ему со скромным достоинством отмечать: «Имею правительственные награды». А иной раз он писал не «правительственные», а «боевые», так звучало эффектней.
Меня Ефим посещал обычно по четвергам, когда ему как ветерану войны в магазине напротив моего дома выдавали польскую курицу, пачку гречки, рыбные палочки, банку растворимого кофе и слипшийся, засахаренный мармелад «Лимонные дольки». Все это он носил в большом портфеле, в котором помещались и другие закупленные по дороге продукты, а также пара экземпляров только что вышедшего романа для подарков случайно встреченным нужным хорошим людям. Там же, конечно, была и новая рукопись, с которой он спешил ознакомить своих друзей, в число которых включал и меня. Я до сих пор хорошо помню толстую желтую папку с коричневыми завязками и надписью «Дело».
Поставив портфель на стул, Ефим осторожно вытаскивал папку и вручал мне, одновременно как бы и смущаясь, и оказывая честь, которой он не каждого удостаивал (не каждый, правда, спешил удостоиться).
– Знаешь, – говорил он, отводя при этом глаза, – мне очень важно знать твое мнение.
Иногда я пытался как-нибудь отбрыкаться:
– Ну зачем тебе мое мнение? Ты же знаешь, что от критики я отошел, потому что всерьез заниматься критикой не дают, а не всерьез ею заниматься не стоит. Я работаю в институте, получаю зарплату. А о текущей литературе писать не собираюсь. Ни о твоих книгах, ни о других.
Он в таких случаях пугался, смущался и пытался меня уверить, что ни на какую печатную критику и не надеется, ему достаточно только моего высокоавторитетного устного мнения.
И, конечно, я всегда давал слабину.
Однажды, впрочем, я сильно на Ефима рассердился и сказал не ему, а своей жене:
– Вот придет, и я ему скажу, что я его книгу не читал и читать не буду. Я не хочу читать про хороших людей. Я хочу читать про всяких негодяев, неудачников и проходимцев. Про Чичикова, Акакия Акакиевича, про Раскольникова, который убивает старух, про человека в футляре или про Остапа Бендера. А мой любимый герой – дезертир, торгующий крадеными собаками.
– Подожди, не горячись, – попыталась меня утихомирить жена. – Посмотри хотя бы первые страницы, может быть, в них все-таки что-то есть.
– И смотреть не желаю! В них ничего нет и быть не может. Глупо ожидать от вороны, что она вдруг запоет соловьем.
– Но ты хоть полистай.
– И листать нечего! – Я швырнул рукопись, и она разлетелась по всей комнате.
Жена вышла, а я, поостыв, стал собирать листки, заглядывая в них и возмущаясь каждой строкой. В конце концов я пролистал всю рукопись, прочел несколько страниц в начале, заглянул в середину и в конец.
Роман назывался «Перелом». Один из участников геологической экспедиции сломал ногу (и вначале даже мужественно пытался это скрыть), а врача поблизости нет, он находится в поселке за сто пятьдесят километров, и имеющийся у экспедиции вездеход, на беду, сломался. И вот хорошие люди несут своего мужественного товарища на руках в дождь и снег, через топи и хляби, переживая неимоверные трудности. Больной хотя и мужественный, но немного отсталый. По-хорошему отсталый. Он просит друзей оставить его на месте, потому что они уже нашли конец нужной жилы, которая очень нужна государству. А раз нужна государству, то и для него она дороже собственной жизни. (Хорошие люди тем особенно и хороши, что своей жизнью особо не дорожат.) Герой просит его оставить и получает, разумеется, выговор от хороших своих товарищей за оскорбление. За высказанное им предположение, что они могут покинуть его в беде. И хотя у них кончились все припасы – и еда, и курево – и ударили морозы, они все-таки донесли товарища до места, не бросили, не пристрелили, не съели.
Все было ясно. На листке бумаги я набросал некоторые заметки и ждал Ефима, чтобы сказать ему правду.
В четверг, как всегда, он явился нагруженный своим раздутым портфелем, из которого и мне досталась банка болгарской кабачковой икры.
Мы поговорили о том о сем, о последней передаче «Голоса Америки», о наших домашних, о его сыне Тишке, который учился в аспирантуре, о дочке Наташе, жившей в Израиле, обсудили одну очень смелую статью в «Литературной газете» и оценили шансы консерваторов и лейбористов на предстоящих выборах в Англии. Почему-то отношения консерваторов и лейбористов Ефима всегда волновали, он регулярно и заинтересованно пересказывал мне, что Нил Киннок сказал Маргарет Тэтчер и что Тэтчер ответила Кинноку.
Наконец я понял, что уклоняться дальше некуда, и сказал, что рукопись я прочел.
– А, очень хорошо! – Он засуетился, немедленно извлек из портфеля средних размеров блокнот с Юрием Долгоруким на обложке, а из кармана ручку «Паркер» (подарили океанологи) и выжидательно уставился на меня.
Я посмотрел на него и покашлял. Начинать прямо с разгрома было неловко. Я решил подсластить пилюлю и сказать для разгона что-нибудь позитивное.
– Мне понравилось… – начал я, и Ефим, подведя под блокнот колено, застрочил что-то быстро, прилежно, не пропуская деталей. – Но мне кажется…
Паркеровское перо отдалилось от блокнота, на лице Ефимовом появилось выражение скуки, глаза смотрели на меня, но уши не слышали. Это была не осознанная тактика, а феномен такого сознания, обладатели которого видят, слышат и помнят только то, что приятно.
– Ты меня не слушаешь, – заметил я, желая хотя бы частично пробиться со своей критикой.
– Нет-нет, почему же! – Слегка смутясь, он приблизил перо к бумаге, но записывать не спешил.
– Понимаешь, – сказал я, – мне кажется, что, сломав ногу, человек, даже если он очень мужественный и очень хороший, во всяком случае, в первый момент, думает о ноге, а не о том, что государству нужна какая-то руда.
– Кобальтовая руда, – уточнил Ефим, – она государству нужна позарез.
– А, ну да, это я понимаю. Кобальтовая руда, она, конечно, нужна. Но она там лежала миллионы лет и несколько дней, наверное, может еще полежать, каши не просит. А нога в это время болит…
Ефим поморщился. Ему было жаль меня, чуждого высоких порывов, но спорить, он понимал, бесполезно. Если уж в человеке чего-то нет, так нет. Поэтому он ограничил нашу дискуссию пределами, доступными моему пониманию, и спросил, что я думаю об общем построении романа, о том, как это написано.
Написано это было, как всегда, из рук вон плохо, но я увидел в глазах его такое отчаянное желание услышать хорошее, что сердце мое дрогнуло.
– Ну, написано это… – Я немного помялся. – …Ну, ничего. – Посмотрел на него и поправился: – Написано довольно хорошо.
Он просиял:
– Да, мне кажется, что стилистически…
Владимир Николаевич Войнович
Владимир Войнович
Шапка
Когда Ефима Степановича Рахлина спрашивали, о чем будет его следующая книга, он скромно потуплял глаза, застенчиво улыбался и отвечал:
– Я всегда пишу о хороших людях.
И всем своим видом давал понять, что пишет о хороших людях потому, что сам хороший и в жизни замечает только хорошее, а плохого совсем не видит.
Хорошими его героями были представители так называемых мужественных профессий: геологи, гляциологи, спелеологи, вулканологи, полярники и альпинисты, которые борются со стихией, то есть силой, не имеющей никакой идеологической направленности. Это давало Ефиму возможность описывать борьбу почти без участия в ней парткомов, райкомов, обкомов (чем он очень гордился) и тем не менее проталкивать свои книги по мере написания, примерно по штуке в год, без особых столкновений с цензурой или редакторами. Потом многие книги перекраивались в пьесы и киносценарии, по ним делались теле – и радиопостановки, что самым положительным образом отражалось на благосостоянии автора. Его трехкомнатная квартира была забита импортом: румынский гарнитур, арабская кровать, чехословацкое пианино, японский телевизор «Сони» и финский холодильник «Розенлев». Квартиру, кроме того, украшала коллекция диковинных предметов, привезенных хозяином из многих экспедиций. Предметы были развешаны по стенам, расстелены на полу, расставлены на подоконниках, на книжных полках, на специальных подставках: оленьи рога, моржовый клык, чучело пингвина, шкура белого медведя, панцирь гигантской черепахи, скелеты глубоководных рыб, высушенные морские ежи и звезды, нанайские тапочки, бурятские или монгольские глиняные фигурки и еще всякая всячина. Показывая мне коллекцию, Ефим почтительно комментировал: «Это мне подарили нефтяники. Это мне подарили картографы. Это – спелеологи».
В печати сочинения Рахлина оценивались обычно очень благожелательно. Правда, писали о них в основном не критики, а те же самые спелеолухи (так всех мужественных людей независимо от их реальных профессий именовал друг Ефима Костя Баранов). Отзывы эти (я подозреваю, что Ефим сам их и сочинял) были похожи один на другой и назывались «Нужная книга», «Полезное чтение», «Это надо знать всем» или как-нибудь в этом духе. Они содержали обычно утверждения, что автор хорошо знаком с трудом и бытом изображаемых героев и достоверно описывает романтику их опасной и нелегкой работы.
Во всех его рассказах (раньше Ефим писал рассказы), повестях (потом стал писать повести) и романах (теперь он пишет только романы) действуют люди как на подбор хорошие, прекрасные, один лучше другого.
Ефим меня уверял, что описываемые им персонажи и в жизни такие. Будучи скептиком, я в этом глубоко сомневался. Я знал, что люди везде одинаковы, что и на дрейфующей льдине среди советского коллектива есть и партийные карьеристы, и стукачи, и хоть один кадровый работник госбезопасности тоже имеется. Потому что в условиях изоляции и долговременного отрыва от родины у некоторых людей даже очень большого мужества может появиться желание выразить какую-нибудь идейно незрелую мысль или рассказать сомнительный в политическом отношении анекдот. Не говоря уж о том, что эта самая льдина может придрейфовать куда угодно и нет никакой гарантии, что ни у кого из хороших людей не хватит мужества остаться на чужом берегу.
Когда я высказывал Ефиму это свое циничное мнение, он даже позволял себе сердиться и горячо уверял меня, что я ошибаюсь, в суровых условиях действуют другие законы и мужественных людей судить по обычным меркам нельзя. «В каком смысле нельзя? – спрашивал я. – В том смысле, что не найдется среди них ни одного, который сбежит? Не найдется ни одного, который погонится за сбежавшим? А если найдутся и тот, и тот, – кто из них хороший, а кто плохой?»
В конце концов Ефим просто замолкал и поджимал губы, показывая, что спорить со мной бесполезно, для того чтобы понимать высокие устремления, надо самому обладать ими.
Во всех его романах непременно случалось какое-нибудь центральное драматическое происшествие: пожар, буран, землетрясение, наводнение со всякими к тому же медицинскими последствиями вроде ожогов, обморожений, откачки утопленников, после чего хорошие люди бегут, летят, плывут, ползут на помощь и охотно делятся своей кровью, кожей, лишними почками и костным мозгом или проявляют свое мужество каким-то иным, опасным для здоровья способом.
Сам Ефим был мужественным, но не храбрым. Он мог тонуть в полынье, валиться с какой-нибудь памирской скалы, гореть при тушении пожара на нефтяной скважине, но при этом всегда боялся тринадцатых чисел, черных кошек, вирусов, змей, собак и начальников. Начальниками он считал всех, от кого зависело дать ему что-то или отказать, поэтому в число начальников входили редакторы журналов, секретари Союза писателей, милиционеры, вахтеры, билетные кассиры, продавцы и домоуправы.
Обращаясь к начальникам с большой или маленькой просьбой, он при этом делал такое жалкое лицо, что отказать ему мог только совершеннейший истукан.
Он всегда просил, вернее, выпрашивал все, начиная от действительно важных вещей, например переиздания книги, до самых ничтожных вроде подписки на журнал «Наука и жизнь». А уж как он хлопотал о том, чтобы «Литературка» отметила его пятидесятилетие юбилейной заметкой с фотографией, как боролся за то, чтобы ему дали хоть какой-нибудь орден, – об этом можно написать целый рассказ или даже повесть. Я писать ни того ни другого не буду, скажу только, что битву свою Ефим выиграл лишь отчасти: заметка появилась без фотографии и без всяких оценочных эпитетов, а вместо ордена ему в порядке общей очереди была вручена Почетная грамота ВЦСПС.
Впрочем, замечу к слову, кое-какие металлические знаки отличия у Ефима все же имелись. В конце войны, прибавив себе в документах пару лет, Ефим (он уже тогда был мужественным) попал в армию, но до фронта не добрался, был ранен во время бомбежки эшелона. Это его неудачное участие в войне было отмечено медалью «За победу над Германией». Двадцать или тридцать лет спустя ему за то же самое дали юбилейную медаль, в семидесятом году он получил медаль в честь столетия Ленина, а в семьдесят первом – медаль «За освоение нефтегазовых месторождений Западной Сибири». Эту награду Ефиму выдал нефтегазовый министр в обмен на экземпляр романа «Скважина», посвященного, между прочим, не западносибирским, а бакинским нефтяникам. Упомянутые медали украшали ефимовскую анкету и в биографических данных позволяли ему со скромным достоинством отмечать: «Имею правительственные награды». А иной раз он писал не «правительственные», а «боевые», так звучало эффектней.
Меня Ефим посещал обычно по четвергам, когда ему как ветерану войны в магазине напротив моего дома выдавали польскую курицу, пачку гречки, рыбные палочки, банку растворимого кофе и слипшийся, засахаренный мармелад «Лимонные дольки». Все это он носил в большом портфеле, в котором помещались и другие закупленные по дороге продукты, а также пара экземпляров только что вышедшего романа для подарков случайно встреченным нужным хорошим людям. Там же, конечно, была и новая рукопись, с которой он спешил ознакомить своих друзей, в число которых включал и меня. Я до сих пор хорошо помню толстую желтую папку с коричневыми завязками и надписью «Дело».
Поставив портфель на стул, Ефим осторожно вытаскивал папку и вручал мне, одновременно как бы и смущаясь, и оказывая честь, которой он не каждого удостаивал (не каждый, правда, спешил удостоиться).
– Знаешь, – говорил он, отводя при этом глаза, – мне очень важно знать твое мнение.
Иногда я пытался как-нибудь отбрыкаться:
– Ну зачем тебе мое мнение? Ты же знаешь, что от критики я отошел, потому что всерьез заниматься критикой не дают, а не всерьез ею заниматься не стоит. Я работаю в институте, получаю зарплату. А о текущей литературе писать не собираюсь. Ни о твоих книгах, ни о других.
Он в таких случаях пугался, смущался и пытался меня уверить, что ни на какую печатную критику и не надеется, ему достаточно только моего высокоавторитетного устного мнения.
И, конечно, я всегда давал слабину.
Однажды, впрочем, я сильно на Ефима рассердился и сказал не ему, а своей жене:
– Вот придет, и я ему скажу, что я его книгу не читал и читать не буду. Я не хочу читать про хороших людей. Я хочу читать про всяких негодяев, неудачников и проходимцев. Про Чичикова, Акакия Акакиевича, про Раскольникова, который убивает старух, про человека в футляре или про Остапа Бендера. А мой любимый герой – дезертир, торгующий крадеными собаками.
– Подожди, не горячись, – попыталась меня утихомирить жена. – Посмотри хотя бы первые страницы, может быть, в них все-таки что-то есть.
– И смотреть не желаю! В них ничего нет и быть не может. Глупо ожидать от вороны, что она вдруг запоет соловьем.
– Но ты хоть полистай.
– И листать нечего! – Я швырнул рукопись, и она разлетелась по всей комнате.
Жена вышла, а я, поостыв, стал собирать листки, заглядывая в них и возмущаясь каждой строкой. В конце концов я пролистал всю рукопись, прочел несколько страниц в начале, заглянул в середину и в конец.
Роман назывался «Перелом». Один из участников геологической экспедиции сломал ногу (и вначале даже мужественно пытался это скрыть), а врача поблизости нет, он находится в поселке за сто пятьдесят километров, и имеющийся у экспедиции вездеход, на беду, сломался. И вот хорошие люди несут своего мужественного товарища на руках в дождь и снег, через топи и хляби, переживая неимоверные трудности. Больной хотя и мужественный, но немного отсталый. По-хорошему отсталый. Он просит друзей оставить его на месте, потому что они уже нашли конец нужной жилы, которая очень нужна государству. А раз нужна государству, то и для него она дороже собственной жизни. (Хорошие люди тем особенно и хороши, что своей жизнью особо не дорожат.) Герой просит его оставить и получает, разумеется, выговор от хороших своих товарищей за оскорбление. За высказанное им предположение, что они могут покинуть его в беде. И хотя у них кончились все припасы – и еда, и курево – и ударили морозы, они все-таки донесли товарища до места, не бросили, не пристрелили, не съели.
Все было ясно. На листке бумаги я набросал некоторые заметки и ждал Ефима, чтобы сказать ему правду.
В четверг, как всегда, он явился нагруженный своим раздутым портфелем, из которого и мне досталась банка болгарской кабачковой икры.
Мы поговорили о том о сем, о последней передаче «Голоса Америки», о наших домашних, о его сыне Тишке, который учился в аспирантуре, о дочке Наташе, жившей в Израиле, обсудили одну очень смелую статью в «Литературной газете» и оценили шансы консерваторов и лейбористов на предстоящих выборах в Англии. Почему-то отношения консерваторов и лейбористов Ефима всегда волновали, он регулярно и заинтересованно пересказывал мне, что Нил Киннок сказал Маргарет Тэтчер и что Тэтчер ответила Кинноку.
Наконец я понял, что уклоняться дальше некуда, и сказал, что рукопись я прочел.
– А, очень хорошо! – Он засуетился, немедленно извлек из портфеля средних размеров блокнот с Юрием Долгоруким на обложке, а из кармана ручку «Паркер» (подарили океанологи) и выжидательно уставился на меня.
Я посмотрел на него и покашлял. Начинать прямо с разгрома было неловко. Я решил подсластить пилюлю и сказать для разгона что-нибудь позитивное.
– Мне понравилось… – начал я, и Ефим, подведя под блокнот колено, застрочил что-то быстро, прилежно, не пропуская деталей. – Но мне кажется…
Паркеровское перо отдалилось от блокнота, на лице Ефимовом появилось выражение скуки, глаза смотрели на меня, но уши не слышали. Это была не осознанная тактика, а феномен такого сознания, обладатели которого видят, слышат и помнят только то, что приятно.
– Ты меня не слушаешь, – заметил я, желая хотя бы частично пробиться со своей критикой.
– Нет-нет, почему же! – Слегка смутясь, он приблизил перо к бумаге, но записывать не спешил.
– Понимаешь, – сказал я, – мне кажется, что, сломав ногу, человек, даже если он очень мужественный и очень хороший, во всяком случае, в первый момент, думает о ноге, а не о том, что государству нужна какая-то руда.
– Кобальтовая руда, – уточнил Ефим, – она государству нужна позарез.
– А, ну да, это я понимаю. Кобальтовая руда, она, конечно, нужна. Но она там лежала миллионы лет и несколько дней, наверное, может еще полежать, каши не просит. А нога в это время болит…
Ефим поморщился. Ему было жаль меня, чуждого высоких порывов, но спорить, он понимал, бесполезно. Если уж в человеке чего-то нет, так нет. Поэтому он ограничил нашу дискуссию пределами, доступными моему пониманию, и спросил, что я думаю об общем построении романа, о том, как это написано.
Написано это было, как всегда, из рук вон плохо, но я увидел в глазах его такое отчаянное желание услышать хорошее, что сердце мое дрогнуло.
– Ну, написано это… – Я немного помялся. – …Ну, ничего. – Посмотрел на него и поправился: – Написано довольно хорошо.
Он просиял:
– Да, мне кажется, что стилистически…
Другие электронные книги автора Владимир Николаевич Войнович
Другие аудиокниги автора Владимир Николаевич Войнович
Шапка




 0
0