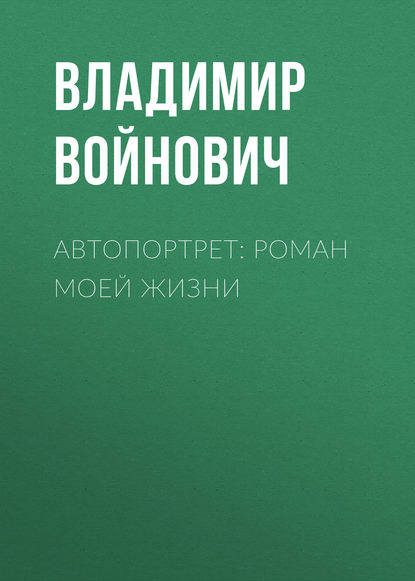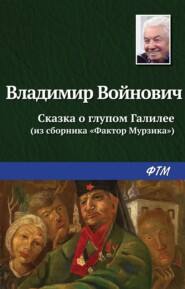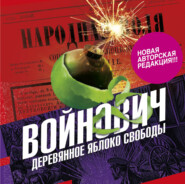По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Автопортрет: Роман моей жизни
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Оказалось, это наши соседи Макарычевы, Иван и его четырнадцатилетний сын Гурька, тонут. Вечером Иван, расконвоированный заключенный, отбывавший срок неподалеку, самовольно пришел из лагеря и благополучно пересек реку. Лед был тонок, но его одного выдержал. Обратно он взял в провожатые Гурьку. И вдвоем они провалились. В полынье барахтаются, кричат. Мать Гурькина тоже по льду мечется, кричит: «Гуренька! Гуренька!» Тянет руку к сыну, он тянется к ней, но в него вцепился отец. Гурька кричит: «Папа, пусти!» Папа не пускает, но вопит: «Спаситё!» Мать тоже провалилась, но, подминая под себя ломающийся лед и один валенок утопив, как-то на лед выползла и опять назад тянется. Мужики, привязав длинные веревки к ботам, швыряют их утопающим, часто попадая им в голову. Боты обледенели, у тонущих руки замерзли, силы кончаются. Ивану кричат: «Отпусти сына! Его вытащим, а потом и тебя!» Но он ополоумел, не отцепляется и все кричит: «Спаситё!»
Рядом на берегу лежали лодки. Если бы с самого начала взять одну да пробить дорогу во льду, можно было до тонущих доплыть и взять их на борт. Но мужики все швыряют боты, а Гурькин отец все кричит, но чем дальше, тем реже и безнадежней. И вот – тишина. На этом берегу стоит молчаливый народ. У того берега полынья, и в ней две шапки покачиваются, как поплавки.
– Эх! – вдруг прозвучал веселый и озорной голос однорукого Васьки Проворова. – Пойду и я тонуть к… матери!
Он столкнул лодку с берега, к нему впрыгнул еще кто-то, за несколько секунд они добрались до полыньи, еще через минуту утопленники лежали рядом на берегу, и мать, припадая к посиневшему телу сына, выла дико, дурно и однотонно. Кто-то предложил попробовать утопленников откачать, но Васька только махнул рукой, хотя шанс, возможно, еще имелся…
Эту картину – как тонули отец с сыном на виду всей бессмысленно суетившейся деревни – я запомнил навсегда, часто видел в ночных кошмарах и вспоминал, когда слышал выражение «идиотизм деревенской жизни».
Две победы
Большая победа над Германией совпала с моей личной, тоже значительной. За несколько дней до того мой сосед и сверстник Тришка показывал мне перочинный нож с лезвиями, большим и малым, с ножничками, открывалкой для консервов и шилом. Он все эти лезвия раскрывал и закрывал, потом оставил раскрытым только маленькое и предложил:
– Хочешь, я тебя ножом ударю?
Я в серьезность его намерения не поверил и в шутку сказал: «Ну, ударь». Тришка тут же размахнулся и ударил меня ножом в левую бровь. Еще бы на полсантиметра ниже – и я бы остался без глаза. Рана оказалась неглубокая, но кровь текла обильно. Зажав рану рукой, я побежал домой, где соврал матери, что сам упал и обо что-то порезался. Шрам остался у меня на всю жизнь. Я был потрясен поступком Тришки, я не понимал, как он мог ударить меня и за что. И воспылал жаждой мести.
Обзаведясь довольно толстой палкой, я без нее из дома не выходил. Дня два ходил безрезультатно, Тришки во дворе не было. На третий день мать послала меня по воду. Я взял ведро и палку, вышел во двор и тут же встретил Тришку. Он шел мне навстречу, теперь уже не с перочинным ножом, а с настоящей финкой с наборной ручкой. Он шел и любовался лезвием, сверкавшим на солнце.
– Ну, что, – увидев меня, сказал он враждебно, – мало попало?
– Мало, – сказал я. И стукнул его палкой по голове – раз, два, три…
Он закрывался руками, я бил по рукам. В конце концов он бросил нож и с криком кинулся от меня бежать. А я бросил ведро и палку и побежал в другую сторону – домой.
Мать, увидев меня, всполошилась:
– Что с тобой, почему ты так запыхался? Почему ты такой бледный? – И, не дождавшись ответа, вдруг прокричала: – Война кончилась! Ты слышишь? Война кончилась!
Она обняла меня и заплакала. А потом сказала:
– Беги в Назарово, скажи тете Соне, что Володю уже не убьют.
И я побежал, как тот первый марафонец, что нес соплеменникам весть о победе. Правда, моя дистанция была покороче – километров пять-шесть. Я влетел в Назарово и, прежде чем завернуть к тете Соне, обежал всю деревню и у всех изб кричал, что проклятая война кончилась. В деревне радио не было, поэтому весть о победе назаровцы узнали не от Левитана, а от меня.
Возвращение в Запорожье
В ноябре 1945 года мы по приглашению тети Ани вернулись в Запорожье, вернее в его остатки. Остатки состояли из лежавшего посередине и застроенного глиняными украинскими мазанками села Вознесеновка и более или менее сохранившейся старой части города, где главную улицу имени Карла Маркса многие люди с дореволюционных времен звали Соборной. Старая часть немцами при отступлении была взорвана только частично, в основном самые большие дома, да и то не все. А вот шестой поселок, где мы жили до войны, был превращен в сплошные уродливые нагромождения битых кирпичей, подобные разрушения второй раз в жизни я видел только сорок пять лет спустя в Спитаке, армянском городе, пережившем (вернее, не пережившем) землетрясение.
Тетя Аня, дядя Костя, бабушка, Сева и Витя жили в старой части города на улице Розы Люксембург, расположенной параллельно улице Карла Маркса и пересекавшей улицу Чекиста. Все пятеро членов этой семьи помещались в небольшой полуподвальной комнате двухэтажного дома, который сохранился (никому не был нужен) среди руин. С нашим приездом жильцов в комнате стало девять, и все мы, за исключением тети Ани, мамы и бабушки, спали вповалку на ковре, расстеленном по всей комнате. Этот бухарский ковер, тяжелый, толстый и грубый, куплен был мамой еще в Ленинабаде в период нашего очередного (но относительного, ввиду отсутствия отца) благополучия. Ковер был настенный, но в наших скитаниях, когда не хватало кроватей, стелился на пол и был ложем для меня и для приезжавших к нам гостей еще много лет.
В Запорожье у нас объявилась еще одна родственница, тетя Галя, жена погибшего на войне моего дяди по отцу, которого звали так же, как и маминого брата – Володя. Тетя Галя вместе с двумя детьми, Юрой и Женей, занимала соседнюю с нами комнату, а еще с ними жил отец тети Гали, которого все звали дедушка Напмэр. Напмэр – это сокращение от слова «например», которое дедушка употреблял кстати и некстати.
– Я, напмэр, вчора був на базари и купыв, напмэр, галоши…
Феня – иностранный язык
Городской базар был рядом с нами. Там можно было купить чуни, то есть галоши, склеенные из автомобильной резины, мамалыгу, американские сигареты, белые лепешки из мела для побелки стен, водопроводную воду – рубль кружка, самодельные зажигалки из винтовочных патронов, полевые сумки, трофейные немецкие часы-штамповку, ржавые гвозди и прочие полезные и бесполезные вещи. Там же располагались рисовальщики и вырезальщики профилей, гадальщики с морскими свинками, а картежные шулеры завлекали дураков игрой в три листика: из трех, положенных вниз картинкой, тузов надо открыть один правильный, что на самом деле получается только у ассистентов, которые создают иллюзию возможности выигрыша. Среди проигравшихся почему-то часто бывали доверчивые деревенские девки. Они продували все, что завязано у них было в узелках, хранилось за пазухой и в рейтузах, а потом стояли тут же и выли: «Дяденька, виддай гроши!» Но дяденька был жестокий, не для того он сюда пришел, чтобы отдавать выдуренное. Там же сидели, выставив свои обрубки, нищие калеки.
Среди нищих было много недавних фронтовиков, иные даже в недоношенной форме и с орденами. Самые страшные инвалиды (я таких встречал и потом), рассчитывая, может быть, на безнаказанность (кто ж их посмеет тронуть?), были склонны к странному хулиганству. Один безногий в морской форме подъезжал на самодельной тележке к теткам, торговавшим глиной, и начинал мочиться прямо под их лепешки. Тетки не сердились, не ругались, а быстро хватали свои лепешки и перебегали на сухое место.
Все эти продавцы, нищие, гадальщики и рисовальщики привлекали к себе внимание бойкими выкриками, шутками и прибаутками, рифмованными и прозаическими.
Среди продавцов и покупателей шныряли воры, в основном мелкие «шипачи», то есть карманники, или такие, которые, торгуясь, брали товар в руки, а потом вместе с ним кидались бежать. Был еще один распространенный способ быстрого обогащения: орава мальчишек подходит к торговке папиросами или леденцами. Один торгуется, другие ждут. Тот, который торгуется, неожиданно выбивает коробку с папиросами или банку с леденцами из рук и сам убегает. Товар летит на землю, рассыпается, торговка орет, орава торопливо подбирает рассыпанное, кто сколько ухватит, и тоже разбегается. Такую ораву никто не трогает, боятся. Но воришку-одиночку могли поколотить.
Однажды при мне одного схватили, он у тетки, торговавшей кучей барахла, пытался что-то украсть, но был пойман. Торговка держала его, колотя по спине, а тут подошел здоровый мужик и, собираясь расправиться с ним более круто, ухватил его для начала за ухо. «Ой, дядечка, пусти! – кричал мальчишка. – Пусти, я сирота, без мамы, без папы, я голодный. Пусти, я больше не буду». Мне его стало так жалко, что я, начитавшись, может быть, Горького, вмешался, стал кричать на мужика, стыдить его, что тот, здоровый, собирается бить несчастного сироту-слабосилку. Я от своих слов никакого эффекта не ожидал, кроме того, что и меня вместе с ним поколотят, но мужик почему-то смутился и с угрозами, относившимися и к воришке, и ко мне, жертву свою отпустил. Мы с воришкой вышли с базара вдвоем, и я спросил его, за что его хотели побить.
Прежде чем ответить мне, он посмотрел на меня с сомнением и потом осторожно спросил:
– Ты по фене ботаешь?
Вспомнив, как назаровцы «ботали» – загоняли длинными дубинами-ботами рыбу в сети, – я ответил утвердительно.
– Да я, падло, бля, хотел утаранить клифт, а этот рохол, сука, шары, кусочник, выкатил, жалко, бля, с собой писки не было, я его, век свободы не видать, тут же бы писанул.
Это и была «феня» – блатной жаргон. Через три года, пройдя через ремесленное училище, я этим языком овладел свободно, но пассивно. То есть понимал все, но сам употреблял слова редко и выборочно.
Вообще способность к языкам у меня всегда была. Через пятьдесят лет после того, как покинул Украину, я согласился в Киеве дать местному телевидению часовое интервью по-украински. По окончании записи я спросил ведущего:
– Ну, як моя украиньска мова?
– Та ничого, – сказал он. – Приблызно, як у наших депутатив…
Игра в половинки
В тесноте, в которой мы жили, взрослые, вероятно, находили много неудовольствия, но я чувствовал себя хорошо. Со мной были оба родителя, бабушка и тетя Аня, ну, а остальные не в счет, дяде Косте и Севе, да и Вите было не до меня. Они все работали.
Все же вечерами иногда обе семьи ужинали вместе на том же ковре, рассевшись вокруг него «по-турецки», слушая при этом порой передаваемые по радио эстрадные концерты. Кстати сказать, слушали по приемнику, тому самому, который эти мерзавцы, как выражалась тетя, в начале войны изъяли, выдав справку, что возвратят. И, как ни странно, возвратили.
Хотя старая часть города сохранилась лучше новой, но и здесь от многих домов остались груды битого кирпича, который находил себе в тех условиях нестандартное применение. Соседский мальчик таскал кирпич на веревке, воображая себе, что это игрушечный грузовик, его сестра такой же кирпич заворачивала в тряпки и пела ему колыбельные песни. А я встретил местных ребят, которые предложили мне играть в «половинки». Не зная, что это такое, я пошел с ними в руины. Там они, разделившись на две группы, стали хватать битые кирпичи и, укрываясь за остатками стен, кидать друг в друга – с явным стремлением поразить цель: попасть, если повезет, противнику в ногу, в живот, а то и проломить голову. Мне эта игра не понравилась, больше в подобных забавах я не участвовал.
С примерами бессмысленной жестокости взрослых и детей мне приходилось сталкиваться и раньше, но никогда в таких масштабах, как в Запорожье. Из увиденного именно в Запорожье я впоследствии вывел мнение, что война не кончается тогда, когда замолкают пушки. Утвержденная войной привычка и стремление к насилию еще долго остаются нормой общения, драки и убийства за мелкий интерес или просто для удовольствия становятся постоянным фоном жизни.
В Запорожье дети моего возраста пережили то, что меня миновало: отступление и наступление советских войск, немецкую оккупацию, они испытали ужас бомбежек, видели, как людей убивают в бою и просто расстреливают, многие из них сами потеряли родителей или остались калеками. Нигде и никогда не видел я столько детей моего возраста безруких, безногих, одноглазых и вовсе слепых, покалеченных пулями, осколками бомб, рухнувшими стенами или ставших жертвами собственных игр с найденными минами или снарядами, а также попавшими под трамвай или грузовик. Сердца иных из этих невзрослых людей были настолько переполнены ненавистью ко всему, что они готовы были бить и убивать кого угодно, за что угодно и ни за что.
На новом месте
Мы пожили немного в старой части, потом отец нашел с помощью тети-Аниных знакомых работу ответсекретарем газеты «Строитель» треста «Запорожстрой». Как ни странно (может быть, помогла отцовская инвалидность), нам дали на четырнадцатом поселке отдельную квартиру, представлявшую собой четверть финского домика, где кроме нас жил председатель постройкома (профсоюзного комитета), начальник местного лагеря и еще кто-то. Начальник лагеря был тихий и скромный по поведению сосед в звании всего-навсего младшего лейтенанта.
Вода и уборная были, разумеется, вне дома и даже не во дворе: водопровод – за несколько домов от нас, а уборная и вовсе на другой улице. Уборная общественная, то есть деревянное сооружение, разделенное на две половины – мужскую и женскую, с рядами дырок, над которыми люди так рядком и садились, а в часы пик женщины ожидали этой возможности в очередях.
Должность моего отца была не такой, при которой полагается персональный транспорт, но редактор Беркович, может быть, из уважения к фронтовым заслугам отца регулярно присылал за ним редакционную машину с шофером Валентиной Ивановной. Машина эта была грузовая, полуторка. Все мелкие начальники ездили именно на грузовиках. Это был один из нонсенсов советской системы центрального планирования. После войны надо было отстраивать страну, поэтому считалось, что в первую очередь нужны автомобили для перемещения грузов, а не людей, и промышленность выпускала в основном грузовики. Начальство же мелкое (для большого легковушек хватало), не желая ходить на работу пешком, грузовики эти в первую очередь распределяло между собой. Причем чем меньше начальник, тем больше грузовик, не по капризу, а по отсутствию выбора. Так что как раз для грузов транспорта не хватало.
Витька гондон
Наша сторона улицы была застроена финскими домиками, а напротив были бараки, приземистые сооружения с длинными коридорами и комнатами по одной на семью. В такой комнате жил мой новый дружок Витька Гондон, прозванный так за то, что носил бурки с галошами из автомобильной резины.
Тем, кто не знает, объясню, что вообще гондонами называли презервативы, переиначив английское слово condom.
Другие электронные книги автора Владимир Николаевич Войнович
Другие аудиокниги автора Владимир Николаевич Войнович
Шапка




 0
0