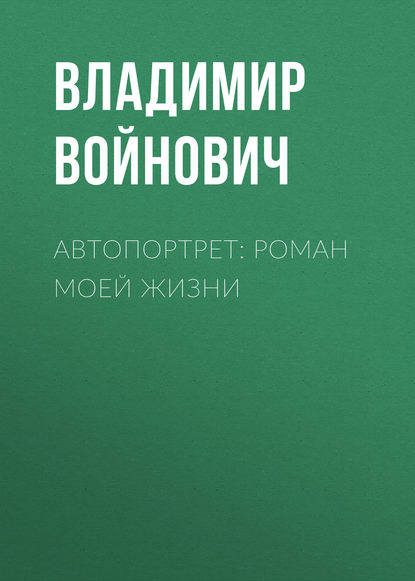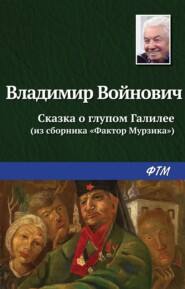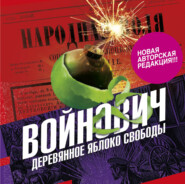По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Автопортрет: Роман моей жизни
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Волик!
Он вздрогнул и растерялся:
– Вы меня знаете?
– Еще бы! Мы же вместе в РУ-8 учились!
– Да? А я вас не помню.
– Конечно, не помните. Я был никто, а вас знали все.
То, что я его помнил, на Волика подействовало благотворно. Он махнул рукой спутникам (они тут же во тьме растворились) и стал мне, по-прежнему «выкая», рассказывать свою печальную историю. Брата Волика зарезали, сестра стала проституткой и умерла от сифилиса, а сам он всю жизнь с короткими перерывами провел в лагерях и к лагерному бытию так привык, что чувствует себя там лучше, чем на свободе. Мы простояли не меньше часа. За это время Волик выкурил несколько сигарет, несколько раз прослезился, а несколько одиноких прохожих остались неограбленными и непобитыми. Расстались мы друзьями.
Труд и его имитация
В 1948 году я окончил ремесленное училище и получил 4-й разряд столяра-краснодеревщика. Другие наши ученики получили пятый разряд, а некоторые и совсем высокий – шестой. Меня направили на Запорожский алюминиевый завод (ЗАЗ), огромный комбинат с секретными цехами и усиленной вооруженной охраной. Недавно я встретил одного бизнесмена, которому предложили этот алюминиевый завод купить по дешевке, но он отказался. Внутри ЗАЗа был деревообделочный завод (ДОЗ). Я считался мобилизованным на четыре года, то есть четыре года должен был отрабатывать хлеб, съеденный в РУ, там, куда пошлют.
На заводе я работал как столяр-белодеревщик, то есть делал из простой древесины (в основном сосны) столы, тумбочки, коробки для дверей и окон, а иной раз даже гробы.
Столярное дело меня мало вдохновляло. У нас была курилка, куда рабочие выходили курить и травить разные истории. Я туда заходил, слушал одного, другого, третьего. Разговоры в курилке мне казались такими интересными, что, выслушав одного говорившего, я оставался слушать другого. Думал, ну вот этого еще дослушаю и пойду работать. Так проходило много времени, и я норму не выполнял. А потом мы с моим другом Вовкой Евенко, таким же работником, как и я, нашли, что малые деньги, которые мы получали, можно зарабатывать более легким способом. Мы перешли в ночную смену и делали тумбочки. Их завод производил в очень больших количествах, как предполагалось – для рабочих общежитий. Но их почему-то никто не брал, и они штабелями складывались в углу огромного цеха. Руководил нашей работой начальник цеха по фамилии – не помню, а по кличке Ибёныть. Это слово, трансформированное из двух составляющих матерное выражение, он употреблял всегда, когда кого-то хвалил или ругал: «Ты, ибёныть, молодец» или «Куда ж ты, ибёныть, смотришь?» А готовую работу принимал у нас мастер отдела технического контроля Каптюх – это уже фамилия. На крышках принятых тумбочек он ставил крупную и жирную печать ОТК.
Мы с Вовкой Евенко на ночь уходили в сушилку для подготовляемых к обработке досок. Температура в сушилке была, как в сауне, – иногда доходила до 100 градусов, но мы терпели. Вовка рассказывал мне сказки разных народов или истории, вычитанные из сочинений фантастов, которые я сам обычно не читал. Иногда Вовка приносил свой альбом с рисунками, посвященными той же фантастике или, чаще, приключениям, мореплавателям и пиратам. Мне очень нравились его морские пейзажи, скалы, гроты и парусные корабли. Ни того, ни другого он никогда не видел и рисовал по воображению. Мне казалось, что рисовал замечательно. Я и сейчас уверен, что он обладал незаурядным талантом, который сумел с пользой для себя проявить. К утру мы возвращались в цех, брали из штабеля несколько тумбочек, но в умеренном количестве, понимая, что, если мы начнем устанавливать слишком внушительные рекорды, нам никто не поверит. Печать состругивали рубанком или стирали наждачной бумагой. С утренней сменой являлся Каптюх, осматривал наши изделия, ставил новую печать и выдавал справку, что сдано столько-то тумбочек. Справки эти он писал на клочках желтой бумаги от мешков, в которых возят цемент. Сданные тумбочки ставились в уже упомянутый штабель. К следующему утру мы печать опять стирали и снова сдавали те же самые тумбочки. Я думаю, что большого вреда государству мы не наносили, потому что все эти тумбочки не были никому нужны, никто их не считал, и труд по их изготовлению был более бессмыслен, чем наши подделки.
Так продолжалось несколько месяцев, пока кто-то не заметил, что бесперебойное производство тумбочек никак не влияет на их количество. Каптюх стал хитрить и ставить свои штампы не на крышках, а на фанере снаружи и внутри тумбочки. Это прибавило нам работы в том смысле, что рубанком уничтожать печати было уже невозможно. Теперь надо было проявлять бдительность и тумбочку перед приготовлением к сдаче с помощью наждачной бумаги очень подробно осматривать. В конце концов, мастер ставил штампы уже в каких-то потаенных местах, до которых иной раз было не добраться. Но мы придумали другой способ обмана – стали подделывать каптюховские расписки. И делали это так хорошо, что когда нас, в конце концов, разоблачили, Каптюх не смог отличить свой почерк от подделанного. Поскольку афера наша была сравнительно мелкая и безобидная, начальник цеха сказал что-то укоризненное вроде:
– Ну что же вы, ибёныть, такое делаете?
Тем дело и кончилось.
«Стой, стрелять буду!»
ЗАЗ по всему периметру был окружен высоким забором и защищался от воровства и проникновения на территорию без пропусков ВОХРом, то есть вооруженной охраной. Но в заборе было дырок и проломов больше, чем вохровцев. Через дырки мы ходили на работу (этот путь был короче, чем через проходную) и через них же выносили кто что хотел, в основном детали изделий, изготавливаемых на продажу. Время от времени я подрабатывал тем, что делал и продавал на рынке фанерные ящики для посылок. Нарезал на работе фанеру, выносил ее с завода, а дома сколачивал ящики. Так же в разобранном виде я вынес детали к обеденному буковому столу, который собрал дома. Он стоял у родителей до самой их смерти.
Пространство в несколько гектаров было на заводе занято контейнерами с каким-то оборудованием, вывезенным из Германии. Контейнеры много лет (и, как я предполагаю, до конца советской власти) стояли нераспакованными. Как-то мы с моим приятелем Толиком Лебедем (он работал в соседнем цехе электриком) приехали вместе на работу и пошли, как обычно, не через проходную, а сквозь дырку – как раз, где стояли контейнеры, сильнее (неизвестно зачем) охраняемые, чем остальная территория. Только пролезли, как появилась охранница с винтовкой: «Стой!» Остановились. Она приказывает: «Пошли в проходную». Толик сказал: «Ни за что!» Она: «Стрелять буду!» Толик картинно распахнул рубаху: «Стреляй!» В нас стрелять она не посмела, но решила выстрелом вызвать подмогу. Поставила винтовку прикладом на колено и выстрелила в воздух. Толик крикнул: «Бежим!» Мы бросились в разные стороны. Она выстрелила еще раз, но мы уже затерялись среди контейнеров.
Как устроен звонок
Трудясь на заводе, я поступил в вечернюю школу рабочей молодежи (ВШРМ). Но интерес к учению у меня пропал, и больших успехов в шестом и седьмом классе я не выказал. Хотя учился в основном без троек. Среди учителей было несколько покалеченных войной. Преподавательница немецкого была еврейкой, пережившей оккупацию. Она свободно говорила по-немецки и выдавала себя за немку. На нее были доносы, ее вызывали в гестапо, допрашивали, требовали признания, что еврейка, она не признавалась, и немцы, не имея доказательств, в конце концов, от нее отстали. Но с тех пор у нее половина лица была парализована, что ее сильно безобразило и что вызывало веселые насмешки учеников. Учитель географии был глух, но глухоту скрывал и за правильностью ответа следил по движению употребляемой учеником указки. Мы над ним бессовестно издевались. Будучи хулиганистым подростком, я однажды взялся ему отвечать что-то по предмету, но при этом пересказывал вполголоса прочитанную где-то статью о дельфинах. Девушки, сидевшие на первых партах, хихикали и хватались за голову. Но поскольку я вообще знал географию неплохо и тыкал указкой в приблизительно правильные точки, учитель поставил мне «пять».
Однажды я попробовал воспользоваться предполагаемой некомпетентностью учителя и попал впросак. Мы сдавали экзамен по физике. Наш преподаватель заболел, и директор, преподававший литературу, пришел его заменить. Мне попался вопрос об устройстве электрического звонка. Я не помнил, как он устроен, но подумал, что литератор вряд ли разбирается в физике, и начал что-то плести. Директор послушал и сказал: нет, электрический звонок устроен так-то и так-то. И поставил мне тройку. Хотя я уже заслуживал большего. Я многое из физики забыл, но как устроен простой электрический звонок, знаю и сейчас. На пятерку.
В два тридцать ночи у «Днепра»
В середине лета 1950 года мы с моим другом Толиком Божко (еще одним Толиком), проходя мимо какой-то школы, увидели во дворе возле турника группу наших сверстников, которыми руководил человек в коричневой кожаной тужурке и фуражке с «крабом». На турнике висели парашютные стропы с лямками, ребята по очереди влезали в лямки и разворачивались вправо и влево.
– А вы чего хлебальники раззявили? – обратился к нам человек в кожанке, слегка шепелявя. – Прыгать с парашютом хотите?
Мы сказали: «Хотим». Он, приладив планшет к колену, записал наши фамилии и назвался сам:
– Михаил Михайлович Аполлонин, инструктор парашютного спорта. Понятно?
– Понятно, – сказал я.
– Не «понятно», а «так точно». Влезай в лямки!
Я влез.
– Спускаться на парашюте, – сказал Аполлонин, – надо так, чтобы ветер дул в спину. Для этого надо в правую руку взять левую лямку, а в левую – правую. Какая рука сверху, в ту сторону ты и развернешься. Понятно?
– Понятно.
– Не «понятно», а «так точно».
Когда те же упражнения проделал и Толик, инструктор сказал:
– Все! Завтра будем прыгать! Приходите ночью в два часа тридцать минут к ресторану «Днепр»…
Как это прыгать завтра? Разве не нужна еще какая-то теория? Медкомиссия? Может, мы недостаточно здоровы. И почему ночью?.. Все это показалось мне странным. Тем не менее в полтретьего ночи к ресторану «Днепр» мы пришли. Пришли и ребята, с которыми мы познакомились днем. Выяснилось, что они, в отличие от нас, не по своему желанию попали в парашютисты, а были направлены военкоматом. Кроме них, пришли к ресторану еще какие-то юноши, некоторые в брезентовых шлемах с очками. Оказалось, это курсанты: учатся кто на летчика, кто на планериста.
Подъехала машина-полуторка со значком «ДОСААФ» на дверце. В кабине, кроме шофера, сидел майор со звездой Героя Советского Союза на груди. Аполлонин и еще несколько инструкторов сидели в кузове. Туда полезли и мы. Ночь была звездная, а дорога длинная. Один из инструкторов, бывший штурман бомбардировочной авиации, показывал нам звезды и объяснял, как по ним ориентироваться и определять время. Летняя ночь коротка, пока доехали до аэродрома, рассвело. Как нам потом объяснили, полеты начинались так рано, потому что на рассвете погода бывает особенно спокойной.
На аэродроме стояли в ряд несколько самолетов «По-2» и три планера «А-2». Аполлонин выстроил нас на дорожке и отсчитал пятнадцать человек – тех, кто будет прыгать. Я оказался тринадцатым, а Толик в число отобранных не попал. Аполлонин подвел нас к деревянному сооружению, называемому трамплином, с площадками на высоте в метр, полтора и два. Внизу была яма с опилками.
– Так, – сказал Аполлонин, – когда будете прыгать, ноги надо держать полусогнутыми, не слишком напряженными, опускаться на всю ступню и падать на правый бок. Сейчас посмотрим, как вы это будете делать. А ну пошли один за другим! Первый уровень можно пропустить… второй по желанию тоже… Давай сразу с третьего!
Все пошли один за другим, весело прыгая в опилки. После этого Аполлонин повел нас к самолету, на киле которого был нарисован парашютный значок, число 250 и чуть ниже надпись: «Летчик-инструктор 1-й категории». Каждый должен был занять место в кабине, по команде «Вылезай!» вылезти на крыло, по команде «Приготовиться!» приблизиться к краю крыла и по команде «Пошел!» прыгнуть. Когда мы все это выполнили, нас повели на летное поле, где были выложены в ряд 15 больших десантных парашютов «ПД-47» и ждал самолет с работающим мотором.
Первый прыжок
Первый полет был ознакомительный: взлет—круг—посадка. Я волновался, но смотреть вниз было не страшно. С балкона четырехэтажного дома смотреть страшнее. Мой отец, которому довелось однажды лететь на таком же самолете, говорил мне, что высоту в полете не ощущаешь, потому что нет отвесной линии. Он был прав. Пока я анализировал свои ощущения, самолет приземлился и подрулил к месту, где были разложены парашюты. Не успел я спрыгнуть на землю, как на меня тут же надели два парашюта (основной и запасной), помогли влезть на крыло и с крыла в переднюю кабину того самолета, где сзади сидел Аполлонин. Взлетели, поднялись повыше, чем в первый раз. Самолет летел, мотор ревел, я оглядывался на Аполлонина и улыбался, показывая, что мне не страшно. Аполлонин на это никак не отвечал, казалось, вообще не замечал меня. Но вот он сделал движение левой рукой, и наступила почти полная тишина. Мотор слегка тарахтел на холостых оборотах.
– Вылезай! – крикнул Аполлонин.
Глубоко провалившийся в кабину и сдавленный двумя парашютами, я стал выбираться. Наверное, я это делал очень медленно и неуклюже, потому что Аполлонин начал что-то выкрикивать. За шумом ветра я не сразу разобрал, что он выкрикивает знакомую фразу: «…твою мать!» Я вылез на крыло и, хватаясь руками за края сначала своей, а потом его кабины, передвинулся к кромке крыла. Я ждал, когда он мне скомандует «Приготовиться!» и «Пошел!», а слышал только «…твою мать!». Я подумал, может быть, что-то не в порядке, посмотрел на Аполлонина, глазами спрашивая, в чем дело, а он мне кричал все то же – про мать. Я ничего не понял, но прыгнул.
Не могу сказать, что мне было так уж страшно. И секунды до момента открытия купола не показались вечностью. Я посмотрел на купол: он парил надо мной большой, квадратный, надежный (вот где подошла бы немецкая реклама шоколада: «Квадратиш, практиш, гут»). Ощущение было одно из самых радостных в жизни – и от свободного полета, и от того, что я не побоялся, а ведь когда-то не мог заставить себя прыгнуть с двухметровой высоты в кучу песка. Но спуск проходил, к сожалению, быстрее, чем хотелось. Я, как меня научили, развернулся спиной к ветру, ноги слегка согнул и сложил вместе, тут же коснулся земли и повалился на правый бок, хотя мог и устоять. Пока отстегнул лямки и кое-как сложил парашют, подъехала машина.
Когда приземлился последний парашютист, нас отвезли на летное поле и приказали построиться. Откуда-то выскочил Аполлонин.
– Сейчас все будут мыть самолеты, а ты, ты, ты и ты, – я был последним, в кого он ткнул пальцем, – марш домой пешком!
– В чем дело?
– В том дело, что трусы вы все!
По его словам, те трое и я тоже будто бы вцепились в кабину и не решались прыгать, и ему пришлось нас скидывать, завалив самолет на крыло. Я не знал, было ли это так с теми тремя, но про себя точно знал, что прыгнул сам. Но он был уверен в обратном. Праздничное настроение сменилось отчаянием. Меня потом в жизни много раз оскорбляли облыжными обвинениями, но ни одно не казалось мне таким обидным.
– Нет, – сказал я Аполлонину. – Я не держался за кабину, я прыгнул сам. Я задержался на крыле, потому что вас не понял.
Другие электронные книги автора Владимир Николаевич Войнович
Другие аудиокниги автора Владимир Николаевич Войнович
Шапка




 0
0