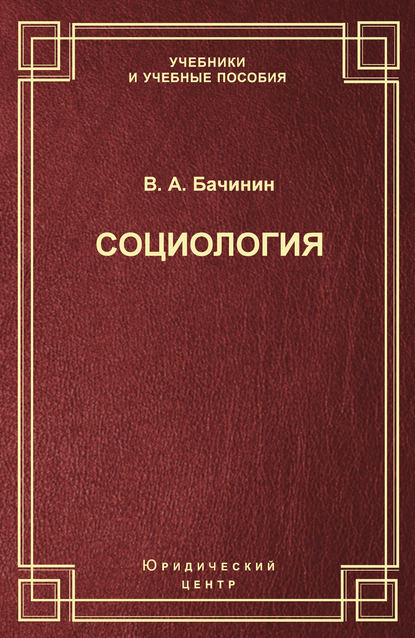По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Социология
Год написания книги
2004
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Формула интеллектуальной аномии (беззакония)
Учителя мудрости, странствующие по городам Эллады, бравшиеся за обучение всех желающих любым наукам, в том числе математике, грамматике, поэтике, риторике, сумели придать философским знаниям достаточно приземленный, прагматически ориентированный характер. В выступлениях софистов обращают на себя внимание два обстоятельства. Первое – это дух дионисийского буйства, проявлявшийся в том, что высказывания софистов осуществляли на глазах публики невероятные разрушения. В обычные слова как будто вселялся некий демон, сокрушающий древние традиции, привычные нормы, устоявшиеся смыслы, общепризнанные законы и авторитеты.
Сокрушив все нормативные, ценностные и смысловые структуры, софист мог тут же, в присутствии потрясенных и растерянных слушателей, выстроить новую смысловую структуру любой конфигурации. Это интеллектуальное дионисийство воспринималось большинством публики вполне благосклонно и даже с восторгом, поскольку отвечало глубинной сути греческого духа, которому Дионис, бог буйства и разрушений, был столь же близок, как и Аполлон, бог порядка и гармонии.
Софисты умели облекать интеллектуальное дионисийство в изящные формы изысканной риторики. В отличие от строгого дорического духа натурфилософии, пренебрегавшей каким бы то ни было украшательством, софистика явилась своеобразным воплощением ионийского стиля, ценящего красоту и изящество внешней формы. Требования риторического искусства, вторгшиеся в философию благодаря софистам, были, по сути, не чем иным, как трансформацией ионийского начала, ценящего не столько смысл философствования, сколько его форму.
Еще один фактор, способствовавший привлечению общего внимания к софистам, связан с характером социально-правовой системы и, в частности, с тем обстоятельством, что судебные процессы в греческих полисах не предполагали присутствия официальных защитников и обвинителей. Истцы и ответчики должны были сами отстаивать свои права и доказывать собственную правоту в открытых дебатах перед судьями. На суде возникала атмосфера словесного агона, где каждая из сторон страстно желала победы и стремилась использовать все приемлемые обстановкой суда языковые, логические и риторические ресурсы. Платон свидетельствовал о том, что «в судах решительно никому нет никакого дела до истины, важна только убедительность». Все это порождало повышенный интерес к ремеслу софистов, у которых можно было научиться искусству словесных поединков, мастерству дерзких нападок и хитроумных защит.
Уроки софистов, которые умели с виртуозностью фокусников доказать, что черное – это белое, добро – это зло, мир – это война и т. д., были далеки от соответствия общепринятым нравственным критериям. Они производили двойственное впечатление, суть которого хорошо передавала одна из басен Эзопа. В ней говорилось о козлоногом сатире, который увидел, как крестьянин зимним, холодным днем согревал дыханием свои озябшие руки. Затем сатир оказался у крестьянина в гостях, и там ему представилась сходная по виду, но противоположная по смыслу сцена: хозяин дул на горячую пищу, чтобы остудить ее. Вывод сатира оказался не лишен глубокомыслия: «Я не могу быть другом того, кто дыханием и греет, и охлаждает; это доказательство двуличия и лживости человеческой натуры». Софисты, которые при помощи одних и тех же слов строили и разрушали, отыскивали истину и прятали ее, превозносили благо и справедливость и растаптывали их, демонстрировали не наивное, естественно-бессознательное двуличие, а намеренное коварство человеческого рассудка, опасное для устоев цивилизованности и культуры.
Амбивалентность софистики имела несколько различных проявлений, но самое разительное из них – это сочетание творческого духа с духом разрушения. Энергичная мысль Протагора, Горгия, Гиппия, Продика, вооруженная мастерством логической аргументации, обладала огромным созидательным потенциалом. В отрывках тех сочинений, которые дошли до нас, в сохранившихся цитатах очевидно присутствие интеллектуального блеска. И если бы целевые причины их деятельности были непосредственно причастны к идеалам общественного блага и справедливости, имена этих мыслителей вполне могли бы стоять в одном ряду с именами Сократа, Платона и Аристотеля. Но целевая детерминация здесь была иного рода: софистов не интересовали возвышенные общественные идеалы, их манили богатство, популярность, выгода.
Дух властолюбия
Самой крупной мишенью для софистов служили абсолютные ценности и нормы бытия. Заповедный мир должного с его возвышенными идеалами, незыблемыми законами, традициями, канонами служил для них примерно тем же, чем является для искусного охотника лес, полный дичи. Обуреваемые непомерной гордыней, которая позднее будет оцениваться христианством как главный из семи смертных грехов, они легко переступали черту запретного. В сущности, софисты жаждали власти. Их прельщала перспектива господства над умами современников. Им нравилось манипулировать их мнениями, обращаться с ними как с марионетками, послушно устремлявшимися в своих суждениях туда, куда направляла их коварная логика софистов. У этой формы господства был особый, изощренный вкус. Надо было быть социальным гурманом, честолюбцем и властолюбцем, чтобы открыто пренебрегать возможностями обычной политической карьеры и использовать свои дарования в столь неординарном направлении. Но, для того чтобы присвоить себе власть над умами людей, необходимо было освободить их от власти привычных представлений, от диктата укоренившихся в их сознании нормативных и ценностных стереотипов. Дух, переведенный в анормативное состояние, утративший традиционные ориентиры, превращался в слепца, нуждающегося в поводыре. И здесь-то софист и начинал ощущать всю меру своего господства над душой, в которой разрушены абсолюты и которую можно было теперь вести в любом направлении, безраздельно властвуя над ней и наслаждаясь этой властью.
Античное «богоубийство»
Обычно самой главной заслугой софистов считают формулировку Протагором знаменитого тезиса о человеке как мере всех вещей. Этот принцип действительно резко изменил ценностную доминанту и смысловую направленность греческой философии: она из «натуродоминантной» превратилась в «антроподоминантную». Философы поняли, что они вправе смотреть на мир с точки зрения человеческих интересов, с позиций живого, конкретного индивида. Изменилась точка отсчета в ценностной иерархии, изменился весь строй и тон философствования. Если прежде «мера всех вещей» имела сверхличный характер и восходила к древним богам, божественным законам, вселенскому Логосу, то теперь она оказалась низведена с небес. Лики богов утратили свой грозный облик, авторитет их начал колебаться в свете рассуждений софистов. Когда Протагор во всеуслышание заявил, что он не знает, существуют боги или нет, поскольку ему мешают два препятствия – темнота вопроса и краткость человеческой жизни, – за этими словами крылось не чистосердечие оказавшегося в тупике мыслителя, а хитрость притаившегося охотника, прицеливающегося в свою жертву.
Гораздо откровеннее был другой софист, Критий, который прямо, в открытую намеревался совершить «богоубийство», заявив, что боги – это не более, чем выдумка людей, что их не было в прошлом и нет в настоящем. Законодателям в давние времена понадобилось придумать богов и наделить их свойствами надсмотрщиков за поведением людей, чтобы облегчить себе труд по управлению подданными. В своей трагедии «Сизиф» Критий рассуждал о том, что в глубокой древности, когда еще не было юридических законов, среди людей царило право сильного. Чтобы воспрепятствовать разгулу насилия, были созданы законы, устанавливающие наказания за различные проступки и преступления. Но это не помогло, и злодеяния не прекратились, а приобрели лишь более скрытый характер. И вот тогда пришлось придумать богов, предназначение которых состояло в том, чтобы обуздать человеческое злонравие. Для своевременного пресечения злодейств боги изображались вездесущими, всезнающими, всевидящими, проникающими даже в человеческие помыслы, так что от них было уже невозможно скрыть преступные намерения. Признав существование богов, люди оказались пленниками собственного изобретения. Многие и по сей день являются рабами иллюзорной уверенности, будто над ними есть высшие силы, но на самом же деле истина состоит в том, что не боги, а человек – настоящий хозяин своей жизни. Ему принадлежит право самостоятельно решать, как ему жить и куда направлять свои силы – на добро или зло.
Трезвый и даже циничный рационализм софистов в их оценках традиционных абсолютов был нацелен на расчистку интеллектуального пространства от нормативных заграждений. Создавались предпосылки для того, чтобы социально-философская мысль, освободившаяся от религиозных ограничений и нравственных привязанностей, могла беспрепятственно бесчинствовать в атмосфере созданной ею интеллектуальной вседозволенности.
Массовое сознание, интуитивно ощущавшее опасность софистики, временами довольно резко реагировало на подобный негативизм. Так, сочинения Протагора были публично сожжены на городской площади Афин, а сам он был приговорен к смертной казни и вынужден был спасаться бегством.
У истоков антроподицеи
Предприняв попытку обесценить мифологические традиции и разрушить религиозные абсолюты, софисты получили возможность поставить в центр миропорядка человека. В истории мировой культуры это была первая форма антропоцентризма. Индивидуальное «я», выделившись из родового «мы», устремилось в своем трансгрессивном порыве вперед, к новым рубежам самоутверждения, пока не достигло ценностно-смыслового предела, дальше которого двигаться было уже некуда. Таковым оказался протагоровский антропоцентризм, возносящий человека над миром, ставящий его выше традиционных нормативных ограничений, несущий в себе идею автономии человеческого духа, который совершил дерзкий акт по присвоению себе права произвольной расстановки ценностных ориентиров и нормативных акцентов. Его трансгрессивность несла в себе, наряду с известной долей интеллектуального авантюризма, также и рациональные начала. Так, Протагор справедливо утверждал, что у человека всегда имеется возможность высказать о любом предмете два противоположных мнения, чему способствуют следующие обстоятельства: 1) любая вещь внутренне противоречива и тем самым позволяет обращать внимание то на одни ее свойства, то на другие, противоположные по характеру; 2) мнения людей о конкретном предмете могут быть различными в силу естественных расхождений вкусов и взглядов. Из этого следовал вывод: если предметы внутренне неоднозначны, а люди различны и их мнения о вещах далеки от единообразия, то не может быть и речи о существовании объективной истины. Любое знание о чем бы то ни было – это образчик противоречия, поскольку оно выражает действительность, будучи не в состоянии ее выразить; оно передает истину, будучи не в силах ее передать. Отсюда любая истина имеет все основания быть одновременно и ложью.
В лице софистов человек впервые обнаружил беспредельные возможности языка, удивительную гибкость и многозначность понятий, способность выстраивать и опровергать любые доводы и сразу же начал применять свои открытия на практике, нанеся тем самым значительный урон делу поиска истины. Так, Горгий сформулировал несколько принципиально важных положений: 1) ничто не существует; 2) если что-либо и существует, то не может быть познано; 3) если нечто и может быть познано, то эти знания нельзя ни выразить, ни передать кому-либо. Таким образом, открывался путь не только к «богоубийству», но и к «убийству» истины. Та же участь ожидала общее благо и справедливость. Горгию была близка мысль о том, что мы живем в мире не истин, а мнений, которые по-своему первичны в общественных оценках этических и правовых вопросов. Но поскольку у каждого имеется свое, особое, мнение, то у людей нет почвы для единства взглядов, формирования общих для всех, универсальных, подходов к морально-правовым явлениям. В своей речи в защиту Елены Прекрасной, из-за которой, согласно древним мифам, началась Троянская война, Горгий блестяще оправдал виновницу гибели Трои. Согласно его версии, Елену толкнули на путь неверности, во-первых, воля могущественных богов Олимпа, во-вторых, энергичные притязания Париса и, в-третьих, беспощадный Эрос, а сама она при этом оставалась чистой и ни в чем не повинной. Аналогичным образом софисты могли оправдать любой неблаговидный поступок и даже преступление. Для этого достаточно было лишь сослаться на неодолимую силу внешних обстоятельств, исключить из поля зрения проблему личностной мотивации, и тогда человек освобождался от ответственности за содеянное и представал в роли несчастной жертвы надличных сил. Софисты обучали всех желающих навыкам использования этого стереотипа для оправдания своих поступков как в обычных, повседневных ситуациях, так и в условиях судебных разбирательств.
Апология свободы
Софисты настаивали на отсутствии универсальных, общеобязательных нравственных требований и правовых норм. Акцентируя внимание на праве человека иметь субъективное мнение по всем вопросам, они трактовали социокультурную нормативность как нечто необязательное. Их субъективизм оборачивался открытым пренебрежением традиционными запретами, воинствующим негативизмом, откровенным имморализмом, различными формами вседозволенности. Свобода как ценность, вкус которой впервые начал ощущать человек «осевого времени», не успев получить всестороннего философского, этического, юридического обоснования, была перехвачена софистами и заменена ее темным двойником – дерзким, имморальным своеволием. Совершив эту коварную подмену, софисты продемонстрировали разрушительный потенциал своего учения, которое, подобно тарану, стало разбивать пока еще достаточно хрупкие цивилизационные и культурные структуры античного социума, расшатывать его нравственно-правовые устои.
Интеллектуально-логическая вседозволенность оказалась чем-то вроде опасного оружия, оказавшегося в руках бесшабашного подростка, лишенного зрелого морально-правового сознания. Софисты с их изворотливым хитроумием, азартом и упоением впадали в поистине дионисийные восторги, буйствуя и разрушая оружием логических софизмов все, что попадалось им на пути. С интеллектуальным цинизмом они выворачивали наизнанку любые очевидности, низвергали любые абсолюты, опрокидывали все общепринятые, традиционные запреты. Намеренно совершаемые логические подмены вводили в заблуждение слушателей, позволяли навязывать им любое выгодное для софиста мнение. Широкая образованность, значительный жизненный опыт, ораторское мастерство позволяли им легко достигать поставленных целей.
Открытие софистики можно приравнять к изобретению людьми такого оружия, как лук и стрелы. Некогда возможность точного попадания в цель, удаленность от противника на безопасное расстояние радикально изменили условия охоты и войны. Софистика изменила исходные условия вербального общения, предоставив сторонам возможность пользоваться мощным оружием нападения и защиты. Обладая имморальной природой, как и подобает любому оружию, она заняла прочное место в арсенале средств социальной борьбы.
Имморализм как отрицание справедливости
Стихийно возникший в античном мире плюрализм философских идей и учений открывал перед каждым гражданином греческого полиса возможность занять любую из существующих мировоззренческих позиций или же сформулировать, обосновать собственную. Подобная «демократия» в сфере философии допускала существование негативистски ориентированных точек зрения, исполненных иронии, скепсиса и высокомерного превосходства по отношению к общепринятым ценностям и нормам. Они были удобны для хитроумных прагматиков, готовых ради собственной выгоды пренебречь всем, чем угодно. В их лице софисты получили ощутимую социальную поддержку. В последующие века ее свойства высоко ценились и активно использовались в политической и судебно-процессуальной сферах.
Риторические экзерсисы софистов имели спрос и своих заказчиков. Однако большинство греков, имевших здравый смысл и здоровое чувство социального самосохранения, интуитивно ощущали опасность, исходящую от софистов. Их смущало отсутствие положительно ориентированного долженствования и негативное отношение к общепринятым представлениям о благе и справедливости. Так, Антифонт рассуждал: «Справедливость заключается в том, чтобы не нарушать закона государства, в котором состоишь гражданином. Так, человек будет извлекать для себя наиболыпе пользы из применения справедливости, если он в присутствии свидетелей станет соблюдать законы, высоко их чтя, оставаясь же наедине, без свидетелей, будет следовать законам природы. Ибо предписания законов произвольны, искусственны, веления же природы необходимы… Вообще же рассмотрение этих вопросов приводит к выводу, что многие предписания, признаваемые справедливыми по закону, враждебны природе человека… Что же касается полезных вещей, то те из них, которые установлены в качестве полезных законами, суть оковы для человеческой природы, те же, которые определены природой, приносят человеку свободу» (Антология мировой философии. М., 1969. Т. 1. С. 320–321).
Противопоставление естественных и социальных законов позволило Антифонту приуменьшить значимость первых на фоне требований природной необходимости. Практика соблюдения социальных законов во имя утверждения справедливости изображена им как тяжкое бремя, лежащее на человеке. И напротив, подчиненность естественным законам выглядит как вход в царство свободы, т. е. все переворачивается с ног на голову: диктат естественной необходимости отождествляется со свободой. С подобным отождествлением можно согласиться только в том случае, если позволительно поставить человека в один ряд с тиграми, волками и обезьянами и считать их обладателями истинной свободы. Но поскольку решиться на подобный шаг оказалось затруднительно даже софисту, то Антифонт предложил путь двоедушия и лицемерия: там, где нет других возможностей, пользоваться социальными масками, изображая из себя радетелей законов и справедливости. Во всех же иных случаях можно существовать без маски, быть самим собой, оставаться таким, каким тебя сотворила природа, и действовать по ее законам, не взирая на нормы морали и права, созданные цивилизацией и культурой.
Аналогичным деструктивным духом пронизаны рассуждения о справедливости софиста Калликла. По его уверениям, равенство противоречит естественному ходу дел, самой природе вещей и, напротив, неравенство вполне соответствует естественным законам и потому должно считаться справедливым. «Обычай объявляет несправедливым и постыдным стремление подняться над толпою, – утверждает Калликл в диалоге Платона „Горгий“, – и это зовется у людей несправедливостью. Но сама природа, я думаю, провозглашает, что это справедливо – когда лучший выше худшего и сильный выше слабого. Что это так, видно во всем и повсюду, и у животных, и у людей, – если взглянуть на города и народы в целом, – видно, что признак справедливости таков: сильный повелевает слабым и стоит выше слабого. По какому праву Ксеркс двинулся походом на Грецию, а его отец – на скифов? (Таких примеров можно привести без числа!) Подобные люди, думаю я, действуют в согласии с самою природою права и – клянусь Зевсом! – в согласии с законом самой природы, хотя он может и не совпадать с тем законом, какой устанавливаем мы и по какому стараемся вылепить самых лучших и решительных среди нас. Мы берем их в детстве, словно львят, и приручаем заклинаньями и ворожбою, внушая, что все должны быть равны и что именно это прекрасно и справедливо. Но если появится человек, достаточно одаренный природою, чтобы разбить и стряхнуть с себя все оковы, я уверен: он освободится, он втопчет к грязь наши писания, и волшебство, и чародейство, и все противные природе законы, и, воспрянув, явится перед нами владыкою, бывший наш раб, – вот тогда-то и просияет справедливость природы» (Платон. Сочинения. Т. 1. М., 1968. С. 308). Эта тирада, выдающая кулачное право сильных за апологию справедливости, звучит почти в духе Ницше и выглядит чуть ли не пророчеством о пришествии сверхчеловека, который отбросит священные скрижали религиозных запретов, отмахнется от всех социальных ограничений, явит себя зверем в человеческом облике. Для Калликла естественное право сводится к возможности грубого насилия по отношению к более слабым. Этим исчерпывается вся суть права, которое предстает в виде неправа, а справедливость обнаруживает все признаки несправедливости.
В идеях софистов присутствуют зерна будущих доктрин имморализма и правового нигилизма. То, что у них оказалось едва лишь намечено, обретет в эпоху Возрождения и в Новое время масштабы развернутых, полномасштабных концепций макиавеллистического, анархического и ницшеанского толка.
Сократ: философско-этическая апология социального порядка
Сократ (469–399 гг. до н. э.) – великий древнегреческий мыслитель. Он родился в Афинах, в семье каменотеса-скульптора и повитухи. Возмужав, он унаследовал профессию отца, но в сорокалетнем возрасте почувствовал неодолимое желание заняться философией, в результате чего все прочие жизненные интересы отодвинулись для него далеко на задний план. Забросив домашние дела, Сократ стал проводить бо?льшую часть времени в философских беседах-диспутах с афинскими интеллектуалами. Обладая сильным умом, талантом красноречия и ярко выраженным познавательным интересом, он утвердился в мысли, что в живом философствовании заключается его истинное жизненное предназначение. «Меня Бог поставил в строй и обязал заниматься философией, испытуя себя и людей», – говорил он о себе.
Будучи ироничным и принципиальным, беспощадным к таким человеческим порокам, как лицемерие, тупоумие, корыстолюбие, Сократ приобрел немало недругов среди афинских обывателей. В конечном счете трое из них написали совместный донос, в котором требовали, чтобы Сократ, будто бы не признававший богов и развращавший своими речами молодежь, был приговорен к смертной казни. Афинский суд, состоявший из пятисот присяжных, рассмотрел дело Сократа и посредством голосования вынес ему смертный приговор. Спустя некоторое время, Сократ, отказавшийся от побега, который ему хотели организовать друзья, выпил чашу с ядом.
Внутри эмпирической личности Сократа, обычного афинянина, толстого, лысого, курносого, обремененного семьей, существовало метафизическое «я», которое Сократ называл своим «даймоном», «гением» или внутренним голосом. На суде он говорил, что всегда повиновался тем советам, которые давал ему «даймон». Так, внутренний голос некогда предостерег Сократа от занятий государственными делами. И философ имел впоследствии много возможностей, чтобы убедиться в правоте «даймона», в том, что если бы не послушался, то давно бы погиб, не принеся пользы ни себе, ни Афинам. Обычному человеку невозможно уцелеть, говоря властям о несправедливости и беззакониях, творимых государством. Тот, кто действительно ратует за нечто благое, должен оставаться частным лицом. Только так можно сохранить духовную свободу и возможность поиска истины. В противном случае философу легко потерять себя. Душа того, кто с головой окунется в политическую жизнь, не будет поспевать за сменой внешних впечатлений. Чуждые ей требования станут раздирать ее на части. Она будет деформироваться и сжиматься под давлением внешних обстоятельств. Утратив свободу и способность воспарять над миром, душа утратит связи с высшей реальностью, впадет в полусонное состояние, из которого ее будет невозможно высвободить. Сократ чрезвычайно дорожил способностью внимать голосу своего «даймона» и высоко ценил статус свободного мыслителя, чье духовное «я» постоянно пребывает в состоянии бодрствования, всегда готово к энергичным интеллектуальным усилиям, штурмам самых сложных философских проблем.
Вся сила философского дара Сократа воплотилась в устном слове. Он не писал ни трактатов, ни философских поэм, ни трагедий, ни диалогов. Если бы не два ученика Сократа, Ксенофонт и Платон, имевшие склонность к литературному творчеству и запечатлевшие некоторые беседы Сократа с согражданами, его имя вполне могло бы кануть в Лету. Несмотря на то, что о мыслителе и его взглядах принято судить по его сочинениям, в случае с Сократом приходится иметь дело с текстами, вторичными по отношению к его истинному кредо. Неведомо, каким было это кредо на самом деле, а известен лишь философ по имени Сократ, изображенный Ксенофонтом и Платоном.
Диалогическая форма социальной коммуникации
Для Сократа основным средством интеллектуального поиска стал живой, непосредственный диалог. Представлявший собой своеобразную микромодель культурного агона, диалог выглядел как состязание собеседников, в котором сталкивались различные взгляды, мнения, позиции, совершался обмен знаниями, обнажались несоответствия и противоречия в устоявшихся ранее представлениях. Сократ обладал умением доводить обнаружившиеся в диалоге противоположные взгляды до непосредственного столкновения. Заостряя противоречия, он уточнял смыслы понятий, выявлял новые содержательные грани и оттенки. При этом он никогда не брал на себя роль оракула, изрекающего окончательные истины. Для него диалог выступал как многоактная интеллектуальная драма, ценность которой была не в финальной сцене развязки, а в том, что ей предшествует. В процессе беседы обнаруживались различные смысловые аспекты обсуждаемой проблемы, между которыми отыскивались связи, устанавливались логические отношения и в итоге возникало новое знание о предмете. Участие в этом поиске будило в Сократе азарт охотника и доставляло ему высшее наслаждение, степень которого становилась предельной, когда философу удавалось установить принадлежность выявленных смыслов единому целому божественного закона (номоса). Появлялось не только новое знание, но и открывался факт его причастности к высшим нормативным и ценностным первоначалам бытия. Умея выявлять и активно использовать продуктивный потенциал интеллектуально-познавательного агона, Сократ был далек от того, чтобы присваивать себе его результаты и считать себя единоличным обладателем истины. Он всегда признавал соавторство собеседника, сколь бы малым ни являлся его вклад. В отличие от Гераклита, намеренно державшегося обособленно, никого не впускавшего в свой духовный мир, не посвящавшего сограждан в свои интеллектуальные искания, Сократ был открыт для каждого и видел в диалогическом общении мощный фактор стимуляции творческого мышления.
Сократ против софистов и циников
Как некогда Солон занял место ключевой фигуры в генезисе греческой правовой цивилизации, так Сократ ознаменовал поворотный пункт в развитии античного философско-правового сознания. Подобно афинскому Акрополю, увенчанному мраморным Парфеноном и свидетельствующему о торжестве аполлоновского начала в культуре, учение Сократа, его личность и судьба говорят о возможности победы номоса над дисномией, аполлонийства над дионисийством в сфере философского духа. Вряд ли было случайностью то обстоятельство, что именно с фронтона храма Аполлона, а не какого-либо иного бога, Сократ взял изречение, ставшее его жизненным девизом: «Познай самого себя».
Ницше, отождествивший аполлонизм с рационализмом, назвал афинского мыслителя первым «теоретическим человеком» и увидел в его идеях первый симптом упадка культуры. Он считал, что Сократ совершил неоправданную подмену, поставив силу рассудочного знания на место силы инстинкта. Будучи апологетом тотальной дисномии, продолжателем линии, у начала которой стояли греческие софисты и циники, Ницше, конечно же, не мог быть союзником и единомышленником Сократа – этого открытого противника всех форм философского имморализма.
Философское дионисийство циников и софистов, их многочисленные попытки обосновать свое право на свободу от каких-либо нормативных и ценностных ограничений расшатывали нравственно-правовые устои в греческих полисах. Их философия отклоняющегося поведения еще не имела под собой серьезных онтологически-космологических оснований (они появятся позднее, вместе с Эпикуром, который предпримет попытку обосновать «право» атомов отклоняться в сторону от траектории, предписанной высшей необходимостью).
Опасность деятельности софистов и циников состояла в том, что их интеллектуальный дионисизм носил не сезонно-рекреационный характер, подобно празднествам в честь бога Диониса, а имел вид целенаправленных и систематических усилий, которые приносили больше вреда, чем пользы, поскольку деструктивных компонентов в них было несравненно больше, чем конструктивных. Но, как известно, действие способно рождать противодействие. Не потому ли среди греческих философов появилась грандиозная фигура гениального мыслителя, видевшего свое предназначение в том, чтобы служить не Дионису, а Аполлону, укрепляя философскими средствами основы морали и правопорядка. В лице Сократа словно сам божественный аполлоновский номос восстал против безответственности софистов и бесстыдства циников.
Онтология номоса
Сократ утверждал, что существуют два типа оснований нравственно-правовой реальности – объективные, восходящие к космическим, божественным законам, и субъективные, связанные с познавательными способностями человеческого разума. Главенствующая роль принадлежит божественному номосу, сосредоточившему в себе абсолютные требования и непререкаемые запреты. Номос универсален; он сам себя определяет и служит главным ориентиром для всех социокультурных усилий человека. Эти взгляды Сократ воспринял от натурфилософов. Греки представляли номос в качестве безличной силы, подчиняющей своей власти отношения между людьми и способной оберегать от разрушений все лучшее и наиболее ценное, что имеется в человеческой жизни. Гераклит, различавший номос божественный и номосы человеческие, утверждал, что последние питаются от первого, который все превозмогает и над всем властвует. Человеческие номосы, по его словам, – это то, без чего нет и не может быть цивилизованной жизни, поэтому людям следует упорно и отважно сражаться за номос, как за свои стены.
Для досократиков в одном ряду с номосом пребывало понятие логоса. Они считали, что через логос до людей доводится смысл требований космоса. Логос выступал смыслонесущим медиатором между человеком и мирозданием, говорил о том, как следует жить и что необходимо делать, чтобы высший порядок не нарушался и чтобы мера организованности и гармоничности в мире не убывала. Являясь онтологически исходной семантической формулой упорядоченности, от которой производны смыслы, нормы и ценности человеческого существования, логос нес в себе базовые нормативные образцы, в соответствии с которыми должны строиться системы моральных и правовых предписаний. Далеко не все люди внемлют императивам логоса. Наиболее чутки к ним мудрецы-философы, видящие свой нравственный долг в том, чтобы доводить до всех остальных людей мысль о важности внимательного вслушивания в смыслы высших требований. Поскольку любое отклонение от требований логоса усугубляет дисгармонию бытия человека в мире, то каждое проявление своеволия следует «гасить скорее, чем пожар». К сожалению, большинство людей с их младенчески слабым рассудком получают лишь малую долю от разумности логоса. Поэтому в их жизни так мало гармонии и столь в избытке зло в виде несчастий, страданий, пороков и преступлений.
Когда индивиды и государства действуют не в соответствии с законом высшей справедливости, когда они глухи к взываниям логоса, космос поворачивается к ним своим грозным ликом: логос становится роком, беспощадно карающим виновных. Таким образом, логос занимал в античном сознании место рядом с номосом, выступая противоположностью хаоса, дисномии, всех форм социального зла и несправедливости. Сократу была близка натурфилософская идея логоса-номоса. Он ратовал за то, чтобы требования морали и законы государства соответствовали призыву высшей справедливости, исходящему от логоса. В отличие от софистов, он был убежден в существовании всеобщих нравственных и естественно-правовых норм, имеющих не относительный, а абсолютный характер.
В лице Сократа греческая цивилизация обнаружила способность к самоанализу своих фундаментальных онтологических оснований. Более того, она нашла в его лице своего надежного защитника, который ни в мыслях, ни в делах никогда не отрывал себя и свою судьбу от судьбы породившего его афинского полиса. Весьма характерен в этом отношении заключительный этап жизни Сократа. Когда суд вынес философу смертный приговор, а друзья предложили ему организовать побег, Сократ возразил, что для него как гражданина существует безусловный долг, требующий подчиняться законам государства. Нарушения гражданами законов чревато для полиса гибелью. Афинское государство не сможет существовать, если судебные решения, принимаемые в нем, не будут иметь силы. Поэтому надо либо переубедить государство, либо исполнять то, что оно велит, а если оно к чему-то приговорит, нужно терпеть невозмутимо, будут ли это побои или оковы, пошлет ли оно на войну, на раны и смерть. Все нужно выполнить, ибо в этом заключена справедливость. Нельзя отступать, уклоняться или бросать свое место в строю.
И на войне, и на суде, и повсюду надо исполнять то, что велит Государство-Отечество. Демонстрировать же непослушание или тем более учинять насилие над матерью или над отцом, а тем паче над Отечеством – нечестиво.
Когнитивные основания человеческого номоса
Сократ полагал, что божественный номос не может утвердиться в межчеловеческих отношениях сам собой. Нравственности и праву необходимы надежные основания, которые пребывали бы в самом человеке, во внутренних структурах его духа. Индивидуум обязан проявлять встречную активность, иметь волю, желание и мужество двигаться по направлению к добру и справедливости. Для этого императивы божественного номоса должны пройти сквозь контролирующую инстанцию критической рефлексии, принять в индивидуальном сознании форму личных убеждений, обладающих непреложной достоверностью. Человек должен быть уверен, что для него в жизни не существует иных путей, кроме того, чтобы всегда, при любых обстоятельствах следовать требованиям божественного номоса. Для Сократа начальным пунктом, с которого открывался бы путь к подобному принятию, выступало знание. Он считал, что поскольку объективные, абсолютные и всеобщие нормы существуют, то долг человека заключается в том, чтобы знать, во-первых, об их существовании, а во-вторых, о содержании заключенных в них требований. Только тот, кто знает, что такое добродетель, законопослушание и справедливость, может быть в полном смысле этих слов добродетельным, законопослушным и справедливым. Знания такого рода представляют собой главное условие цивилизованного поведения. И напротив, незнание этих простых, но очень важных вещей чревато опасными проступками, пороками и преступлениями.
Зло гораздо чаще заявляет о себе в среде тех, кто не знает сути добра и справедливости, чем в среде знающих ее. Тирания, дисномия, вседозволенность гораздо быстрее утверждаются среди темноты и невежества, чем в просвещенной среде. Сократ был убежден в том, что люди в своем большинстве не обладают врожденной предрасположенностью к злу. А если они и творят его, то это происходит чаще всего по неведению. Кто невежествен, тот не в состоянии сделать правильный выбор в сложной жизненной ситуации. За неразумным выбором могут последовать другие ошибочные шаги с роковыми, непоправимыми последствиями.
Тезис о том, что знание ведет к добродетели, а незнание – к порокам и преступлениям, представляет собой образчик западной, европейской мудрости. Он не вписывается в библейскую формулу ветхозаветного Екклезиаста, утверждавшего, что во многом знании много печали. Сократ в данном случае выступает единомышленником Софокла, который в трагедии «Царь Эдип» высвечивает ту же идею о непосредственной связи между знанием (незнанием) и добром (злом). Для обоих, драматурга и философа, преступник – человек, пребывающий в состоянии непонимания глубинных первооснов бытия, погруженный во тьму незнания. С ними солидарен Платон, утверждавший, что знание прекрасно и способно управлять человеком. Все вместе они убеждены, что того, кто познал хорошее и плохое, ничто уже не заставит поступать иначе, чем велит знание. Мыслящий дух испытывает потребность знать глубинную суть тех норм, ценностей и смыслов, что составляют содержание нравственности и права. Задаваясь вопросами об их истинности, он склонен проверять их на достоверность и действенность. Проверки такого рода могут иметь как позитивно-конструктивные цели, так и откровенно деструктивные, включая расшатывание и даже ниспровержение норм и законов. В этом, втором, направлении действовали софисты и циники, чьи интеллектуальные и практические усилия создавали в морально-правовом пространстве государств-полисов очаги дисномии, распространяли настроения неверия в целесообразность цивилизованного правопорядка.
Интеллектуально-поисковая активность Сократа имела противоположную, чем у софистов и циников, направленность. Он исследовал нравственно-правовые предписания, руководствуясь как познавательным интересом, так и стремлением доказать всем и каждому недопустимость отрыва единичного от всеобщего, частных интересов от интересов государственного целого. Гегель писал: «Сократ выступает теперь с убеждением, что в настоящее время каждый должен сам заботиться о своей нравственности; так он, Сократ, заботился о своей нравственности с помощью сознания и размышления о себе, ища в своем сознании исчезнувшего в действительности всеобщего духа; так он помогал другим заботиться о своей нравственности, пробуждая в них сознание, что они обладают в своих мыслях добром и истиною, т. е. тем, что в действовании и знании есть само по себе сущее. Теперь люди больше уже не обладают последним непосредственно, а должны запасаться им подобно тому, как корабль должен делать запасы пресной воды, когда он направляется в такие места, где ее нет. Непосредственное больше уже не имеет силы, а должно оправдать себя пред мыслью.» (Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии. Кн. 11. Л., 1932. С. 55).
Учителя мудрости, странствующие по городам Эллады, бравшиеся за обучение всех желающих любым наукам, в том числе математике, грамматике, поэтике, риторике, сумели придать философским знаниям достаточно приземленный, прагматически ориентированный характер. В выступлениях софистов обращают на себя внимание два обстоятельства. Первое – это дух дионисийского буйства, проявлявшийся в том, что высказывания софистов осуществляли на глазах публики невероятные разрушения. В обычные слова как будто вселялся некий демон, сокрушающий древние традиции, привычные нормы, устоявшиеся смыслы, общепризнанные законы и авторитеты.
Сокрушив все нормативные, ценностные и смысловые структуры, софист мог тут же, в присутствии потрясенных и растерянных слушателей, выстроить новую смысловую структуру любой конфигурации. Это интеллектуальное дионисийство воспринималось большинством публики вполне благосклонно и даже с восторгом, поскольку отвечало глубинной сути греческого духа, которому Дионис, бог буйства и разрушений, был столь же близок, как и Аполлон, бог порядка и гармонии.
Софисты умели облекать интеллектуальное дионисийство в изящные формы изысканной риторики. В отличие от строгого дорического духа натурфилософии, пренебрегавшей каким бы то ни было украшательством, софистика явилась своеобразным воплощением ионийского стиля, ценящего красоту и изящество внешней формы. Требования риторического искусства, вторгшиеся в философию благодаря софистам, были, по сути, не чем иным, как трансформацией ионийского начала, ценящего не столько смысл философствования, сколько его форму.
Еще один фактор, способствовавший привлечению общего внимания к софистам, связан с характером социально-правовой системы и, в частности, с тем обстоятельством, что судебные процессы в греческих полисах не предполагали присутствия официальных защитников и обвинителей. Истцы и ответчики должны были сами отстаивать свои права и доказывать собственную правоту в открытых дебатах перед судьями. На суде возникала атмосфера словесного агона, где каждая из сторон страстно желала победы и стремилась использовать все приемлемые обстановкой суда языковые, логические и риторические ресурсы. Платон свидетельствовал о том, что «в судах решительно никому нет никакого дела до истины, важна только убедительность». Все это порождало повышенный интерес к ремеслу софистов, у которых можно было научиться искусству словесных поединков, мастерству дерзких нападок и хитроумных защит.
Уроки софистов, которые умели с виртуозностью фокусников доказать, что черное – это белое, добро – это зло, мир – это война и т. д., были далеки от соответствия общепринятым нравственным критериям. Они производили двойственное впечатление, суть которого хорошо передавала одна из басен Эзопа. В ней говорилось о козлоногом сатире, который увидел, как крестьянин зимним, холодным днем согревал дыханием свои озябшие руки. Затем сатир оказался у крестьянина в гостях, и там ему представилась сходная по виду, но противоположная по смыслу сцена: хозяин дул на горячую пищу, чтобы остудить ее. Вывод сатира оказался не лишен глубокомыслия: «Я не могу быть другом того, кто дыханием и греет, и охлаждает; это доказательство двуличия и лживости человеческой натуры». Софисты, которые при помощи одних и тех же слов строили и разрушали, отыскивали истину и прятали ее, превозносили благо и справедливость и растаптывали их, демонстрировали не наивное, естественно-бессознательное двуличие, а намеренное коварство человеческого рассудка, опасное для устоев цивилизованности и культуры.
Амбивалентность софистики имела несколько различных проявлений, но самое разительное из них – это сочетание творческого духа с духом разрушения. Энергичная мысль Протагора, Горгия, Гиппия, Продика, вооруженная мастерством логической аргументации, обладала огромным созидательным потенциалом. В отрывках тех сочинений, которые дошли до нас, в сохранившихся цитатах очевидно присутствие интеллектуального блеска. И если бы целевые причины их деятельности были непосредственно причастны к идеалам общественного блага и справедливости, имена этих мыслителей вполне могли бы стоять в одном ряду с именами Сократа, Платона и Аристотеля. Но целевая детерминация здесь была иного рода: софистов не интересовали возвышенные общественные идеалы, их манили богатство, популярность, выгода.
Дух властолюбия
Самой крупной мишенью для софистов служили абсолютные ценности и нормы бытия. Заповедный мир должного с его возвышенными идеалами, незыблемыми законами, традициями, канонами служил для них примерно тем же, чем является для искусного охотника лес, полный дичи. Обуреваемые непомерной гордыней, которая позднее будет оцениваться христианством как главный из семи смертных грехов, они легко переступали черту запретного. В сущности, софисты жаждали власти. Их прельщала перспектива господства над умами современников. Им нравилось манипулировать их мнениями, обращаться с ними как с марионетками, послушно устремлявшимися в своих суждениях туда, куда направляла их коварная логика софистов. У этой формы господства был особый, изощренный вкус. Надо было быть социальным гурманом, честолюбцем и властолюбцем, чтобы открыто пренебрегать возможностями обычной политической карьеры и использовать свои дарования в столь неординарном направлении. Но, для того чтобы присвоить себе власть над умами людей, необходимо было освободить их от власти привычных представлений, от диктата укоренившихся в их сознании нормативных и ценностных стереотипов. Дух, переведенный в анормативное состояние, утративший традиционные ориентиры, превращался в слепца, нуждающегося в поводыре. И здесь-то софист и начинал ощущать всю меру своего господства над душой, в которой разрушены абсолюты и которую можно было теперь вести в любом направлении, безраздельно властвуя над ней и наслаждаясь этой властью.
Античное «богоубийство»
Обычно самой главной заслугой софистов считают формулировку Протагором знаменитого тезиса о человеке как мере всех вещей. Этот принцип действительно резко изменил ценностную доминанту и смысловую направленность греческой философии: она из «натуродоминантной» превратилась в «антроподоминантную». Философы поняли, что они вправе смотреть на мир с точки зрения человеческих интересов, с позиций живого, конкретного индивида. Изменилась точка отсчета в ценностной иерархии, изменился весь строй и тон философствования. Если прежде «мера всех вещей» имела сверхличный характер и восходила к древним богам, божественным законам, вселенскому Логосу, то теперь она оказалась низведена с небес. Лики богов утратили свой грозный облик, авторитет их начал колебаться в свете рассуждений софистов. Когда Протагор во всеуслышание заявил, что он не знает, существуют боги или нет, поскольку ему мешают два препятствия – темнота вопроса и краткость человеческой жизни, – за этими словами крылось не чистосердечие оказавшегося в тупике мыслителя, а хитрость притаившегося охотника, прицеливающегося в свою жертву.
Гораздо откровеннее был другой софист, Критий, который прямо, в открытую намеревался совершить «богоубийство», заявив, что боги – это не более, чем выдумка людей, что их не было в прошлом и нет в настоящем. Законодателям в давние времена понадобилось придумать богов и наделить их свойствами надсмотрщиков за поведением людей, чтобы облегчить себе труд по управлению подданными. В своей трагедии «Сизиф» Критий рассуждал о том, что в глубокой древности, когда еще не было юридических законов, среди людей царило право сильного. Чтобы воспрепятствовать разгулу насилия, были созданы законы, устанавливающие наказания за различные проступки и преступления. Но это не помогло, и злодеяния не прекратились, а приобрели лишь более скрытый характер. И вот тогда пришлось придумать богов, предназначение которых состояло в том, чтобы обуздать человеческое злонравие. Для своевременного пресечения злодейств боги изображались вездесущими, всезнающими, всевидящими, проникающими даже в человеческие помыслы, так что от них было уже невозможно скрыть преступные намерения. Признав существование богов, люди оказались пленниками собственного изобретения. Многие и по сей день являются рабами иллюзорной уверенности, будто над ними есть высшие силы, но на самом же деле истина состоит в том, что не боги, а человек – настоящий хозяин своей жизни. Ему принадлежит право самостоятельно решать, как ему жить и куда направлять свои силы – на добро или зло.
Трезвый и даже циничный рационализм софистов в их оценках традиционных абсолютов был нацелен на расчистку интеллектуального пространства от нормативных заграждений. Создавались предпосылки для того, чтобы социально-философская мысль, освободившаяся от религиозных ограничений и нравственных привязанностей, могла беспрепятственно бесчинствовать в атмосфере созданной ею интеллектуальной вседозволенности.
Массовое сознание, интуитивно ощущавшее опасность софистики, временами довольно резко реагировало на подобный негативизм. Так, сочинения Протагора были публично сожжены на городской площади Афин, а сам он был приговорен к смертной казни и вынужден был спасаться бегством.
У истоков антроподицеи
Предприняв попытку обесценить мифологические традиции и разрушить религиозные абсолюты, софисты получили возможность поставить в центр миропорядка человека. В истории мировой культуры это была первая форма антропоцентризма. Индивидуальное «я», выделившись из родового «мы», устремилось в своем трансгрессивном порыве вперед, к новым рубежам самоутверждения, пока не достигло ценностно-смыслового предела, дальше которого двигаться было уже некуда. Таковым оказался протагоровский антропоцентризм, возносящий человека над миром, ставящий его выше традиционных нормативных ограничений, несущий в себе идею автономии человеческого духа, который совершил дерзкий акт по присвоению себе права произвольной расстановки ценностных ориентиров и нормативных акцентов. Его трансгрессивность несла в себе, наряду с известной долей интеллектуального авантюризма, также и рациональные начала. Так, Протагор справедливо утверждал, что у человека всегда имеется возможность высказать о любом предмете два противоположных мнения, чему способствуют следующие обстоятельства: 1) любая вещь внутренне противоречива и тем самым позволяет обращать внимание то на одни ее свойства, то на другие, противоположные по характеру; 2) мнения людей о конкретном предмете могут быть различными в силу естественных расхождений вкусов и взглядов. Из этого следовал вывод: если предметы внутренне неоднозначны, а люди различны и их мнения о вещах далеки от единообразия, то не может быть и речи о существовании объективной истины. Любое знание о чем бы то ни было – это образчик противоречия, поскольку оно выражает действительность, будучи не в состоянии ее выразить; оно передает истину, будучи не в силах ее передать. Отсюда любая истина имеет все основания быть одновременно и ложью.
В лице софистов человек впервые обнаружил беспредельные возможности языка, удивительную гибкость и многозначность понятий, способность выстраивать и опровергать любые доводы и сразу же начал применять свои открытия на практике, нанеся тем самым значительный урон делу поиска истины. Так, Горгий сформулировал несколько принципиально важных положений: 1) ничто не существует; 2) если что-либо и существует, то не может быть познано; 3) если нечто и может быть познано, то эти знания нельзя ни выразить, ни передать кому-либо. Таким образом, открывался путь не только к «богоубийству», но и к «убийству» истины. Та же участь ожидала общее благо и справедливость. Горгию была близка мысль о том, что мы живем в мире не истин, а мнений, которые по-своему первичны в общественных оценках этических и правовых вопросов. Но поскольку у каждого имеется свое, особое, мнение, то у людей нет почвы для единства взглядов, формирования общих для всех, универсальных, подходов к морально-правовым явлениям. В своей речи в защиту Елены Прекрасной, из-за которой, согласно древним мифам, началась Троянская война, Горгий блестяще оправдал виновницу гибели Трои. Согласно его версии, Елену толкнули на путь неверности, во-первых, воля могущественных богов Олимпа, во-вторых, энергичные притязания Париса и, в-третьих, беспощадный Эрос, а сама она при этом оставалась чистой и ни в чем не повинной. Аналогичным образом софисты могли оправдать любой неблаговидный поступок и даже преступление. Для этого достаточно было лишь сослаться на неодолимую силу внешних обстоятельств, исключить из поля зрения проблему личностной мотивации, и тогда человек освобождался от ответственности за содеянное и представал в роли несчастной жертвы надличных сил. Софисты обучали всех желающих навыкам использования этого стереотипа для оправдания своих поступков как в обычных, повседневных ситуациях, так и в условиях судебных разбирательств.
Апология свободы
Софисты настаивали на отсутствии универсальных, общеобязательных нравственных требований и правовых норм. Акцентируя внимание на праве человека иметь субъективное мнение по всем вопросам, они трактовали социокультурную нормативность как нечто необязательное. Их субъективизм оборачивался открытым пренебрежением традиционными запретами, воинствующим негативизмом, откровенным имморализмом, различными формами вседозволенности. Свобода как ценность, вкус которой впервые начал ощущать человек «осевого времени», не успев получить всестороннего философского, этического, юридического обоснования, была перехвачена софистами и заменена ее темным двойником – дерзким, имморальным своеволием. Совершив эту коварную подмену, софисты продемонстрировали разрушительный потенциал своего учения, которое, подобно тарану, стало разбивать пока еще достаточно хрупкие цивилизационные и культурные структуры античного социума, расшатывать его нравственно-правовые устои.
Интеллектуально-логическая вседозволенность оказалась чем-то вроде опасного оружия, оказавшегося в руках бесшабашного подростка, лишенного зрелого морально-правового сознания. Софисты с их изворотливым хитроумием, азартом и упоением впадали в поистине дионисийные восторги, буйствуя и разрушая оружием логических софизмов все, что попадалось им на пути. С интеллектуальным цинизмом они выворачивали наизнанку любые очевидности, низвергали любые абсолюты, опрокидывали все общепринятые, традиционные запреты. Намеренно совершаемые логические подмены вводили в заблуждение слушателей, позволяли навязывать им любое выгодное для софиста мнение. Широкая образованность, значительный жизненный опыт, ораторское мастерство позволяли им легко достигать поставленных целей.
Открытие софистики можно приравнять к изобретению людьми такого оружия, как лук и стрелы. Некогда возможность точного попадания в цель, удаленность от противника на безопасное расстояние радикально изменили условия охоты и войны. Софистика изменила исходные условия вербального общения, предоставив сторонам возможность пользоваться мощным оружием нападения и защиты. Обладая имморальной природой, как и подобает любому оружию, она заняла прочное место в арсенале средств социальной борьбы.
Имморализм как отрицание справедливости
Стихийно возникший в античном мире плюрализм философских идей и учений открывал перед каждым гражданином греческого полиса возможность занять любую из существующих мировоззренческих позиций или же сформулировать, обосновать собственную. Подобная «демократия» в сфере философии допускала существование негативистски ориентированных точек зрения, исполненных иронии, скепсиса и высокомерного превосходства по отношению к общепринятым ценностям и нормам. Они были удобны для хитроумных прагматиков, готовых ради собственной выгоды пренебречь всем, чем угодно. В их лице софисты получили ощутимую социальную поддержку. В последующие века ее свойства высоко ценились и активно использовались в политической и судебно-процессуальной сферах.
Риторические экзерсисы софистов имели спрос и своих заказчиков. Однако большинство греков, имевших здравый смысл и здоровое чувство социального самосохранения, интуитивно ощущали опасность, исходящую от софистов. Их смущало отсутствие положительно ориентированного долженствования и негативное отношение к общепринятым представлениям о благе и справедливости. Так, Антифонт рассуждал: «Справедливость заключается в том, чтобы не нарушать закона государства, в котором состоишь гражданином. Так, человек будет извлекать для себя наиболыпе пользы из применения справедливости, если он в присутствии свидетелей станет соблюдать законы, высоко их чтя, оставаясь же наедине, без свидетелей, будет следовать законам природы. Ибо предписания законов произвольны, искусственны, веления же природы необходимы… Вообще же рассмотрение этих вопросов приводит к выводу, что многие предписания, признаваемые справедливыми по закону, враждебны природе человека… Что же касается полезных вещей, то те из них, которые установлены в качестве полезных законами, суть оковы для человеческой природы, те же, которые определены природой, приносят человеку свободу» (Антология мировой философии. М., 1969. Т. 1. С. 320–321).
Противопоставление естественных и социальных законов позволило Антифонту приуменьшить значимость первых на фоне требований природной необходимости. Практика соблюдения социальных законов во имя утверждения справедливости изображена им как тяжкое бремя, лежащее на человеке. И напротив, подчиненность естественным законам выглядит как вход в царство свободы, т. е. все переворачивается с ног на голову: диктат естественной необходимости отождествляется со свободой. С подобным отождествлением можно согласиться только в том случае, если позволительно поставить человека в один ряд с тиграми, волками и обезьянами и считать их обладателями истинной свободы. Но поскольку решиться на подобный шаг оказалось затруднительно даже софисту, то Антифонт предложил путь двоедушия и лицемерия: там, где нет других возможностей, пользоваться социальными масками, изображая из себя радетелей законов и справедливости. Во всех же иных случаях можно существовать без маски, быть самим собой, оставаться таким, каким тебя сотворила природа, и действовать по ее законам, не взирая на нормы морали и права, созданные цивилизацией и культурой.
Аналогичным деструктивным духом пронизаны рассуждения о справедливости софиста Калликла. По его уверениям, равенство противоречит естественному ходу дел, самой природе вещей и, напротив, неравенство вполне соответствует естественным законам и потому должно считаться справедливым. «Обычай объявляет несправедливым и постыдным стремление подняться над толпою, – утверждает Калликл в диалоге Платона „Горгий“, – и это зовется у людей несправедливостью. Но сама природа, я думаю, провозглашает, что это справедливо – когда лучший выше худшего и сильный выше слабого. Что это так, видно во всем и повсюду, и у животных, и у людей, – если взглянуть на города и народы в целом, – видно, что признак справедливости таков: сильный повелевает слабым и стоит выше слабого. По какому праву Ксеркс двинулся походом на Грецию, а его отец – на скифов? (Таких примеров можно привести без числа!) Подобные люди, думаю я, действуют в согласии с самою природою права и – клянусь Зевсом! – в согласии с законом самой природы, хотя он может и не совпадать с тем законом, какой устанавливаем мы и по какому стараемся вылепить самых лучших и решительных среди нас. Мы берем их в детстве, словно львят, и приручаем заклинаньями и ворожбою, внушая, что все должны быть равны и что именно это прекрасно и справедливо. Но если появится человек, достаточно одаренный природою, чтобы разбить и стряхнуть с себя все оковы, я уверен: он освободится, он втопчет к грязь наши писания, и волшебство, и чародейство, и все противные природе законы, и, воспрянув, явится перед нами владыкою, бывший наш раб, – вот тогда-то и просияет справедливость природы» (Платон. Сочинения. Т. 1. М., 1968. С. 308). Эта тирада, выдающая кулачное право сильных за апологию справедливости, звучит почти в духе Ницше и выглядит чуть ли не пророчеством о пришествии сверхчеловека, который отбросит священные скрижали религиозных запретов, отмахнется от всех социальных ограничений, явит себя зверем в человеческом облике. Для Калликла естественное право сводится к возможности грубого насилия по отношению к более слабым. Этим исчерпывается вся суть права, которое предстает в виде неправа, а справедливость обнаруживает все признаки несправедливости.
В идеях софистов присутствуют зерна будущих доктрин имморализма и правового нигилизма. То, что у них оказалось едва лишь намечено, обретет в эпоху Возрождения и в Новое время масштабы развернутых, полномасштабных концепций макиавеллистического, анархического и ницшеанского толка.
Сократ: философско-этическая апология социального порядка
Сократ (469–399 гг. до н. э.) – великий древнегреческий мыслитель. Он родился в Афинах, в семье каменотеса-скульптора и повитухи. Возмужав, он унаследовал профессию отца, но в сорокалетнем возрасте почувствовал неодолимое желание заняться философией, в результате чего все прочие жизненные интересы отодвинулись для него далеко на задний план. Забросив домашние дела, Сократ стал проводить бо?льшую часть времени в философских беседах-диспутах с афинскими интеллектуалами. Обладая сильным умом, талантом красноречия и ярко выраженным познавательным интересом, он утвердился в мысли, что в живом философствовании заключается его истинное жизненное предназначение. «Меня Бог поставил в строй и обязал заниматься философией, испытуя себя и людей», – говорил он о себе.
Будучи ироничным и принципиальным, беспощадным к таким человеческим порокам, как лицемерие, тупоумие, корыстолюбие, Сократ приобрел немало недругов среди афинских обывателей. В конечном счете трое из них написали совместный донос, в котором требовали, чтобы Сократ, будто бы не признававший богов и развращавший своими речами молодежь, был приговорен к смертной казни. Афинский суд, состоявший из пятисот присяжных, рассмотрел дело Сократа и посредством голосования вынес ему смертный приговор. Спустя некоторое время, Сократ, отказавшийся от побега, который ему хотели организовать друзья, выпил чашу с ядом.
Внутри эмпирической личности Сократа, обычного афинянина, толстого, лысого, курносого, обремененного семьей, существовало метафизическое «я», которое Сократ называл своим «даймоном», «гением» или внутренним голосом. На суде он говорил, что всегда повиновался тем советам, которые давал ему «даймон». Так, внутренний голос некогда предостерег Сократа от занятий государственными делами. И философ имел впоследствии много возможностей, чтобы убедиться в правоте «даймона», в том, что если бы не послушался, то давно бы погиб, не принеся пользы ни себе, ни Афинам. Обычному человеку невозможно уцелеть, говоря властям о несправедливости и беззакониях, творимых государством. Тот, кто действительно ратует за нечто благое, должен оставаться частным лицом. Только так можно сохранить духовную свободу и возможность поиска истины. В противном случае философу легко потерять себя. Душа того, кто с головой окунется в политическую жизнь, не будет поспевать за сменой внешних впечатлений. Чуждые ей требования станут раздирать ее на части. Она будет деформироваться и сжиматься под давлением внешних обстоятельств. Утратив свободу и способность воспарять над миром, душа утратит связи с высшей реальностью, впадет в полусонное состояние, из которого ее будет невозможно высвободить. Сократ чрезвычайно дорожил способностью внимать голосу своего «даймона» и высоко ценил статус свободного мыслителя, чье духовное «я» постоянно пребывает в состоянии бодрствования, всегда готово к энергичным интеллектуальным усилиям, штурмам самых сложных философских проблем.
Вся сила философского дара Сократа воплотилась в устном слове. Он не писал ни трактатов, ни философских поэм, ни трагедий, ни диалогов. Если бы не два ученика Сократа, Ксенофонт и Платон, имевшие склонность к литературному творчеству и запечатлевшие некоторые беседы Сократа с согражданами, его имя вполне могло бы кануть в Лету. Несмотря на то, что о мыслителе и его взглядах принято судить по его сочинениям, в случае с Сократом приходится иметь дело с текстами, вторичными по отношению к его истинному кредо. Неведомо, каким было это кредо на самом деле, а известен лишь философ по имени Сократ, изображенный Ксенофонтом и Платоном.
Диалогическая форма социальной коммуникации
Для Сократа основным средством интеллектуального поиска стал живой, непосредственный диалог. Представлявший собой своеобразную микромодель культурного агона, диалог выглядел как состязание собеседников, в котором сталкивались различные взгляды, мнения, позиции, совершался обмен знаниями, обнажались несоответствия и противоречия в устоявшихся ранее представлениях. Сократ обладал умением доводить обнаружившиеся в диалоге противоположные взгляды до непосредственного столкновения. Заостряя противоречия, он уточнял смыслы понятий, выявлял новые содержательные грани и оттенки. При этом он никогда не брал на себя роль оракула, изрекающего окончательные истины. Для него диалог выступал как многоактная интеллектуальная драма, ценность которой была не в финальной сцене развязки, а в том, что ей предшествует. В процессе беседы обнаруживались различные смысловые аспекты обсуждаемой проблемы, между которыми отыскивались связи, устанавливались логические отношения и в итоге возникало новое знание о предмете. Участие в этом поиске будило в Сократе азарт охотника и доставляло ему высшее наслаждение, степень которого становилась предельной, когда философу удавалось установить принадлежность выявленных смыслов единому целому божественного закона (номоса). Появлялось не только новое знание, но и открывался факт его причастности к высшим нормативным и ценностным первоначалам бытия. Умея выявлять и активно использовать продуктивный потенциал интеллектуально-познавательного агона, Сократ был далек от того, чтобы присваивать себе его результаты и считать себя единоличным обладателем истины. Он всегда признавал соавторство собеседника, сколь бы малым ни являлся его вклад. В отличие от Гераклита, намеренно державшегося обособленно, никого не впускавшего в свой духовный мир, не посвящавшего сограждан в свои интеллектуальные искания, Сократ был открыт для каждого и видел в диалогическом общении мощный фактор стимуляции творческого мышления.
Сократ против софистов и циников
Как некогда Солон занял место ключевой фигуры в генезисе греческой правовой цивилизации, так Сократ ознаменовал поворотный пункт в развитии античного философско-правового сознания. Подобно афинскому Акрополю, увенчанному мраморным Парфеноном и свидетельствующему о торжестве аполлоновского начала в культуре, учение Сократа, его личность и судьба говорят о возможности победы номоса над дисномией, аполлонийства над дионисийством в сфере философского духа. Вряд ли было случайностью то обстоятельство, что именно с фронтона храма Аполлона, а не какого-либо иного бога, Сократ взял изречение, ставшее его жизненным девизом: «Познай самого себя».
Ницше, отождествивший аполлонизм с рационализмом, назвал афинского мыслителя первым «теоретическим человеком» и увидел в его идеях первый симптом упадка культуры. Он считал, что Сократ совершил неоправданную подмену, поставив силу рассудочного знания на место силы инстинкта. Будучи апологетом тотальной дисномии, продолжателем линии, у начала которой стояли греческие софисты и циники, Ницше, конечно же, не мог быть союзником и единомышленником Сократа – этого открытого противника всех форм философского имморализма.
Философское дионисийство циников и софистов, их многочисленные попытки обосновать свое право на свободу от каких-либо нормативных и ценностных ограничений расшатывали нравственно-правовые устои в греческих полисах. Их философия отклоняющегося поведения еще не имела под собой серьезных онтологически-космологических оснований (они появятся позднее, вместе с Эпикуром, который предпримет попытку обосновать «право» атомов отклоняться в сторону от траектории, предписанной высшей необходимостью).
Опасность деятельности софистов и циников состояла в том, что их интеллектуальный дионисизм носил не сезонно-рекреационный характер, подобно празднествам в честь бога Диониса, а имел вид целенаправленных и систематических усилий, которые приносили больше вреда, чем пользы, поскольку деструктивных компонентов в них было несравненно больше, чем конструктивных. Но, как известно, действие способно рождать противодействие. Не потому ли среди греческих философов появилась грандиозная фигура гениального мыслителя, видевшего свое предназначение в том, чтобы служить не Дионису, а Аполлону, укрепляя философскими средствами основы морали и правопорядка. В лице Сократа словно сам божественный аполлоновский номос восстал против безответственности софистов и бесстыдства циников.
Онтология номоса
Сократ утверждал, что существуют два типа оснований нравственно-правовой реальности – объективные, восходящие к космическим, божественным законам, и субъективные, связанные с познавательными способностями человеческого разума. Главенствующая роль принадлежит божественному номосу, сосредоточившему в себе абсолютные требования и непререкаемые запреты. Номос универсален; он сам себя определяет и служит главным ориентиром для всех социокультурных усилий человека. Эти взгляды Сократ воспринял от натурфилософов. Греки представляли номос в качестве безличной силы, подчиняющей своей власти отношения между людьми и способной оберегать от разрушений все лучшее и наиболее ценное, что имеется в человеческой жизни. Гераклит, различавший номос божественный и номосы человеческие, утверждал, что последние питаются от первого, который все превозмогает и над всем властвует. Человеческие номосы, по его словам, – это то, без чего нет и не может быть цивилизованной жизни, поэтому людям следует упорно и отважно сражаться за номос, как за свои стены.
Для досократиков в одном ряду с номосом пребывало понятие логоса. Они считали, что через логос до людей доводится смысл требований космоса. Логос выступал смыслонесущим медиатором между человеком и мирозданием, говорил о том, как следует жить и что необходимо делать, чтобы высший порядок не нарушался и чтобы мера организованности и гармоничности в мире не убывала. Являясь онтологически исходной семантической формулой упорядоченности, от которой производны смыслы, нормы и ценности человеческого существования, логос нес в себе базовые нормативные образцы, в соответствии с которыми должны строиться системы моральных и правовых предписаний. Далеко не все люди внемлют императивам логоса. Наиболее чутки к ним мудрецы-философы, видящие свой нравственный долг в том, чтобы доводить до всех остальных людей мысль о важности внимательного вслушивания в смыслы высших требований. Поскольку любое отклонение от требований логоса усугубляет дисгармонию бытия человека в мире, то каждое проявление своеволия следует «гасить скорее, чем пожар». К сожалению, большинство людей с их младенчески слабым рассудком получают лишь малую долю от разумности логоса. Поэтому в их жизни так мало гармонии и столь в избытке зло в виде несчастий, страданий, пороков и преступлений.
Когда индивиды и государства действуют не в соответствии с законом высшей справедливости, когда они глухи к взываниям логоса, космос поворачивается к ним своим грозным ликом: логос становится роком, беспощадно карающим виновных. Таким образом, логос занимал в античном сознании место рядом с номосом, выступая противоположностью хаоса, дисномии, всех форм социального зла и несправедливости. Сократу была близка натурфилософская идея логоса-номоса. Он ратовал за то, чтобы требования морали и законы государства соответствовали призыву высшей справедливости, исходящему от логоса. В отличие от софистов, он был убежден в существовании всеобщих нравственных и естественно-правовых норм, имеющих не относительный, а абсолютный характер.
В лице Сократа греческая цивилизация обнаружила способность к самоанализу своих фундаментальных онтологических оснований. Более того, она нашла в его лице своего надежного защитника, который ни в мыслях, ни в делах никогда не отрывал себя и свою судьбу от судьбы породившего его афинского полиса. Весьма характерен в этом отношении заключительный этап жизни Сократа. Когда суд вынес философу смертный приговор, а друзья предложили ему организовать побег, Сократ возразил, что для него как гражданина существует безусловный долг, требующий подчиняться законам государства. Нарушения гражданами законов чревато для полиса гибелью. Афинское государство не сможет существовать, если судебные решения, принимаемые в нем, не будут иметь силы. Поэтому надо либо переубедить государство, либо исполнять то, что оно велит, а если оно к чему-то приговорит, нужно терпеть невозмутимо, будут ли это побои или оковы, пошлет ли оно на войну, на раны и смерть. Все нужно выполнить, ибо в этом заключена справедливость. Нельзя отступать, уклоняться или бросать свое место в строю.
И на войне, и на суде, и повсюду надо исполнять то, что велит Государство-Отечество. Демонстрировать же непослушание или тем более учинять насилие над матерью или над отцом, а тем паче над Отечеством – нечестиво.
Когнитивные основания человеческого номоса
Сократ полагал, что божественный номос не может утвердиться в межчеловеческих отношениях сам собой. Нравственности и праву необходимы надежные основания, которые пребывали бы в самом человеке, во внутренних структурах его духа. Индивидуум обязан проявлять встречную активность, иметь волю, желание и мужество двигаться по направлению к добру и справедливости. Для этого императивы божественного номоса должны пройти сквозь контролирующую инстанцию критической рефлексии, принять в индивидуальном сознании форму личных убеждений, обладающих непреложной достоверностью. Человек должен быть уверен, что для него в жизни не существует иных путей, кроме того, чтобы всегда, при любых обстоятельствах следовать требованиям божественного номоса. Для Сократа начальным пунктом, с которого открывался бы путь к подобному принятию, выступало знание. Он считал, что поскольку объективные, абсолютные и всеобщие нормы существуют, то долг человека заключается в том, чтобы знать, во-первых, об их существовании, а во-вторых, о содержании заключенных в них требований. Только тот, кто знает, что такое добродетель, законопослушание и справедливость, может быть в полном смысле этих слов добродетельным, законопослушным и справедливым. Знания такого рода представляют собой главное условие цивилизованного поведения. И напротив, незнание этих простых, но очень важных вещей чревато опасными проступками, пороками и преступлениями.
Зло гораздо чаще заявляет о себе в среде тех, кто не знает сути добра и справедливости, чем в среде знающих ее. Тирания, дисномия, вседозволенность гораздо быстрее утверждаются среди темноты и невежества, чем в просвещенной среде. Сократ был убежден в том, что люди в своем большинстве не обладают врожденной предрасположенностью к злу. А если они и творят его, то это происходит чаще всего по неведению. Кто невежествен, тот не в состоянии сделать правильный выбор в сложной жизненной ситуации. За неразумным выбором могут последовать другие ошибочные шаги с роковыми, непоправимыми последствиями.
Тезис о том, что знание ведет к добродетели, а незнание – к порокам и преступлениям, представляет собой образчик западной, европейской мудрости. Он не вписывается в библейскую формулу ветхозаветного Екклезиаста, утверждавшего, что во многом знании много печали. Сократ в данном случае выступает единомышленником Софокла, который в трагедии «Царь Эдип» высвечивает ту же идею о непосредственной связи между знанием (незнанием) и добром (злом). Для обоих, драматурга и философа, преступник – человек, пребывающий в состоянии непонимания глубинных первооснов бытия, погруженный во тьму незнания. С ними солидарен Платон, утверждавший, что знание прекрасно и способно управлять человеком. Все вместе они убеждены, что того, кто познал хорошее и плохое, ничто уже не заставит поступать иначе, чем велит знание. Мыслящий дух испытывает потребность знать глубинную суть тех норм, ценностей и смыслов, что составляют содержание нравственности и права. Задаваясь вопросами об их истинности, он склонен проверять их на достоверность и действенность. Проверки такого рода могут иметь как позитивно-конструктивные цели, так и откровенно деструктивные, включая расшатывание и даже ниспровержение норм и законов. В этом, втором, направлении действовали софисты и циники, чьи интеллектуальные и практические усилия создавали в морально-правовом пространстве государств-полисов очаги дисномии, распространяли настроения неверия в целесообразность цивилизованного правопорядка.
Интеллектуально-поисковая активность Сократа имела противоположную, чем у софистов и циников, направленность. Он исследовал нравственно-правовые предписания, руководствуясь как познавательным интересом, так и стремлением доказать всем и каждому недопустимость отрыва единичного от всеобщего, частных интересов от интересов государственного целого. Гегель писал: «Сократ выступает теперь с убеждением, что в настоящее время каждый должен сам заботиться о своей нравственности; так он, Сократ, заботился о своей нравственности с помощью сознания и размышления о себе, ища в своем сознании исчезнувшего в действительности всеобщего духа; так он помогал другим заботиться о своей нравственности, пробуждая в них сознание, что они обладают в своих мыслях добром и истиною, т. е. тем, что в действовании и знании есть само по себе сущее. Теперь люди больше уже не обладают последним непосредственно, а должны запасаться им подобно тому, как корабль должен делать запасы пресной воды, когда он направляется в такие места, где ее нет. Непосредственное больше уже не имеет силы, а должно оправдать себя пред мыслью.» (Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии. Кн. 11. Л., 1932. С. 55).