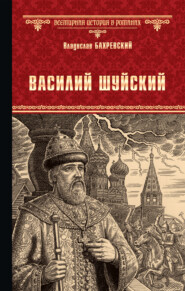По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Царская карусель. Мундир и фрак Жуковского
Серия
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На Васеньке уморительно милый халат – копия черного бархатного халата Афанасия Ивановича. К Васенькиным черным глазкам. А рубашка к личику – розовая, как утро. Полотна тончайшего.
Запретов в доме для Васеньки не писано. На зависть мастерицам лежит на полу, перекатываясь туда-сюда. Мытый, скребаный спозаранок пол светелки хранит спасительную прохладу.
– Летом на полу токмо и житье! – вздыхает Ефросиньюшка, рассыпая веселый треск коклюшек. Ефросиньюшка бабушка бабушек, но личико у нее без морщин, глазки маленькие, веселые. Её кружево – святая простота, да ведь и красота святая.
Васенька, подкатясь к Ефросиньюшке, смотрит на кружево и шепчет, шепчет. Слов не разобрать, а личико пресерьезное.
Мария Григорьевна, не утерпев, встает, показывает девкам, чтоб передвинули кресло, и тоже принимается разглядывать работу Ефросиньюшки. Белёвские кружева – слава города. В заморских землях по кружевам только и знают: есть, мол, в русских далях Белёв-городок, в том городке у каждой бабы коклюшки от сокровенных мастеров, сами плетут узоры.
– Чудо ты мое, Ефросиньюшка! – качает головою Мария Григорьевна. – Глазки у тебя с копеечку, руки разве что чуток поболе Васенькиных, узор немудрен, нити те же, а кружеву твоему цены нет. Ты-то, Васенька, выглядел Ефросиньюшкину тайну?
Мальчик хмурится.
– Я, бабушка, иное выглядываю.
– Ну-ка, ну-ка!
– Сама говоришь: в нашем кружеве – сердце русское. Вот я и смотрю, где оно, в какой ниточке.
– До чего же ты нежданный, Васенька! – изумляется Мария Григорьевна. – И в седую голову не придет, чего у тебя на уме. Эй, Паранька, изюму принеси! Да кипятком чтоб ошпарили.
Васенька благодарно прикатывается к бабушкиным ногам: изюм да чернослив любимые лакомства.
– Паранька! – кличет вдогонку барыня. – Полотенце не забудь! Да намочи полотенце-то!
Параньки все нет и нет, и Васенька поглядывает на дверь, надув губки. И – расцветает! Явилась! Вскакивает, бежит навстречу.
Паранька принимается отирать барчонку руки, приговаривая:
– Потерпи еще малешко! Я отбирала изюм-то! Чтоб позолотей, покрупней.
От Параньки пахнет сеном, и Васенька рад потерпеть. Но вот глиняная кружка, полнехонькая, у него в руках. Боясь просыпать жданную сладость, он подходит к бабушке и щедро отсыпает ей горсть. Вторая горсть – Ефросиньюшке, а дальше – по порядку. Когда очередь доходит до Параньки, у барчука в глазах сомнение, но он отважно вытряхивает последки в Паранькину пригоршню и недоуменно глядит в кружку. Нижняя губа сама собой прячется под верхнюю, ресницы хлопают, и он поспешно лезет под стол.
Мария Григорьевна перстом указывает Параньке на дверь, та перелетает комнату, и уже через мгновение под стол вползает блюдо с изюмом, с черносливом, с финиками.
Молчание, сопение, но вот скатерть приподнимается, и бабушке, Параньке, мастерицам сияют благодарные, полные непролившихся слез несравненные Васенькины глаза.
Шестилетний прапорщик
В светелке барчонок увалень, а на дворе в него вселялся неугомон. Носится, как ласточка. Выкрикивает что-то непонятное, но уж такое счастливое. Дуня, Машенька, Аннушка Вельяминовы припускаются за братцем – на самом деле он им дядюшка, – и звон тут, и вихрь, прыжки с крыльца, кувырки с горы, взлеты на гору с криками, с визгами.
Одно останавливало Васеньку. Он даже замирал, когда, пусть даже издали, видел турчанку Сальху – Елизавету Дементьевну, ключницу. Она проходила мимо него в доме, она не видела его во дворе, хотя иной раз была совсем рядом. Она не ласкала его, не окликала и никогда не оглядывалась.
Может, поэтому во всей усадьбе была единственная дверь, перед которой он обмирал. Та дверь вела во флигель, где жила ключница. Ему было стыдно и страшно, но он, не умея пересилить терзающую тягу, прибегал к этой двери, стоял, ждал и, наверное, умер бы, если бы она вдруг отворилась.
Но он не умер, когда в летний зной увидел дверь отворенной. Он подкрался и заглянул в комнату. Елизавета Дементьевна сидела на ковре, по-турецки, скрестя ноги. В прекрасной ее руке, в длинных пальцах, как голубой цветок – пиала.
Елизавета Дементьевна повернула голову, увидела его, и глаза ее вскрикнули. Васенька отпрянул от двери и бросился бежать, и долго стоял среди сиреневых кустов, не желая идти к людям.
Однако ж все пошло по-прежнему, да ведь ничего я не случилось, но Мария Григорьевна углядела-таки Васенькино неспокойствие.
Развлекая, принялась читать ему и внучкам поэму немца Христофора Мартина Виланда «Оберон, царь волшебников». Языкам не была научена, читала по-русски, пересказ Василия Лёвшина. С Васеньки тут и сошла задумчивость. Объявил себя рыцарем Гюоном, всем репьям головы поотсекал. Меч ему Андрей Григорьевич из дуба выстругал, а Дементий Голимбиевский подарил старый охотничий рог. Мария Григорьевна тоже в стороне не осталась. Своими руками сшила алый плащ, а из старых сундуков достала треугольную шляпу.
Рыцарские игры Васенька не чаял без Маши Вельяминовой да без Аннушки Юшковой. Обеих внучек Мария Григорьевна держала при себе. Маша сиротка. Аннушка родилась недоношенной, жизни в ней было, как в пузырьке воздуха на луже, врачи помочь не умели, а бабушка не сдалась. В печурке выдержала, выходила, у Бога вымолила. Девочки и были Васиным воинством.
Однажды сгоряча забежали с Машей в заросли крапивы, и хоть на помощь зови.
– Я тебя спасу! – сказал Вася и проломил в крапиве тропу, сам острекался, а сестрицу уберег.
– Хочешь, тайну тебе открою? – страшным шепотом спросила Маша.
У Васи пылали руки и ноги, но страданий он не выказывал.
– Хочу.
– У меня мамы нет и у тебя нет. Когда мы вырастем, ты будешь папа, а я мама.
Маша наклонилась и поцеловала Васеньку в обе щечки.
Васенька снова загрустил.
– Уж такой уродился, – говорила о нем Мария Григорьевна. – То удержу не знает – юла, а то не растормошишь.
И впрямь. Был море-океан, стал озерцо тихое. Игры с девочками оставил, прилепился к Андрею Григорьевичу, к крестному.
Были они, что старый, что малый, – молчальники. Уединятся на пригорке, под зарослями сирени. Сидят, молчат. Перед ними луга, село Фатьяново, Васькова гора. Андрей Григорьевич повздыхает, возьмет из футляра скрипку, и пошел пожикивать смычком по струнам.
Окутает Васино сердечко золотом звуков да и пустит росток в небеса, под облако, и выше, выше, в синеву и до самого, должно быть, солнца. Вася голову подопрет кулачком, смотрит, смотрит. На клубящийся поток серебристых ив вдоль Семьюнки, на древние ветлы по берегам Выры, на изумрудную благодать влажного, теплого травяного царства.
– До слезы? – спросит Андрей Григорьевич.
– До слезы, – признается крестник.
– Ах, Вася, до слезы! Соловьи и скрипка – ничего лучше нет.
– А коростель?! – удивится Вася.
– Скрип-то?
– Се – голос лугов.
– Голос лугов, говоришь? – призадумается Андрей Григорьевич. – Доброе у тебя сердце, Вася. Такое сердце каждого, кого встретишь в жизни, обогреет и посветит каждому. Добро неиссякаемо, как солнце. Добро и есть дитя солнца.
Хорошо жилось барчонку в Мишенском, да ведь всё до поры. Вольная жизнь кончилась в самый разгар летнего счастья.
Сначала пришла бумага от тульского губернатора: сержант Астраханского полка Василий Андреевич Жуковский произведен в прапорщики.
Следом за письмом приехал Афанасий Иванович, привез из Москвы учителя-немца. Прапорщику было шесть лет, а грамоты не знал. Еким Иванович должен был научить барчонка чтению по-немецки и арифметике.
Запретов в доме для Васеньки не писано. На зависть мастерицам лежит на полу, перекатываясь туда-сюда. Мытый, скребаный спозаранок пол светелки хранит спасительную прохладу.
– Летом на полу токмо и житье! – вздыхает Ефросиньюшка, рассыпая веселый треск коклюшек. Ефросиньюшка бабушка бабушек, но личико у нее без морщин, глазки маленькие, веселые. Её кружево – святая простота, да ведь и красота святая.
Васенька, подкатясь к Ефросиньюшке, смотрит на кружево и шепчет, шепчет. Слов не разобрать, а личико пресерьезное.
Мария Григорьевна, не утерпев, встает, показывает девкам, чтоб передвинули кресло, и тоже принимается разглядывать работу Ефросиньюшки. Белёвские кружева – слава города. В заморских землях по кружевам только и знают: есть, мол, в русских далях Белёв-городок, в том городке у каждой бабы коклюшки от сокровенных мастеров, сами плетут узоры.
– Чудо ты мое, Ефросиньюшка! – качает головою Мария Григорьевна. – Глазки у тебя с копеечку, руки разве что чуток поболе Васенькиных, узор немудрен, нити те же, а кружеву твоему цены нет. Ты-то, Васенька, выглядел Ефросиньюшкину тайну?
Мальчик хмурится.
– Я, бабушка, иное выглядываю.
– Ну-ка, ну-ка!
– Сама говоришь: в нашем кружеве – сердце русское. Вот я и смотрю, где оно, в какой ниточке.
– До чего же ты нежданный, Васенька! – изумляется Мария Григорьевна. – И в седую голову не придет, чего у тебя на уме. Эй, Паранька, изюму принеси! Да кипятком чтоб ошпарили.
Васенька благодарно прикатывается к бабушкиным ногам: изюм да чернослив любимые лакомства.
– Паранька! – кличет вдогонку барыня. – Полотенце не забудь! Да намочи полотенце-то!
Параньки все нет и нет, и Васенька поглядывает на дверь, надув губки. И – расцветает! Явилась! Вскакивает, бежит навстречу.
Паранька принимается отирать барчонку руки, приговаривая:
– Потерпи еще малешко! Я отбирала изюм-то! Чтоб позолотей, покрупней.
От Параньки пахнет сеном, и Васенька рад потерпеть. Но вот глиняная кружка, полнехонькая, у него в руках. Боясь просыпать жданную сладость, он подходит к бабушке и щедро отсыпает ей горсть. Вторая горсть – Ефросиньюшке, а дальше – по порядку. Когда очередь доходит до Параньки, у барчука в глазах сомнение, но он отважно вытряхивает последки в Паранькину пригоршню и недоуменно глядит в кружку. Нижняя губа сама собой прячется под верхнюю, ресницы хлопают, и он поспешно лезет под стол.
Мария Григорьевна перстом указывает Параньке на дверь, та перелетает комнату, и уже через мгновение под стол вползает блюдо с изюмом, с черносливом, с финиками.
Молчание, сопение, но вот скатерть приподнимается, и бабушке, Параньке, мастерицам сияют благодарные, полные непролившихся слез несравненные Васенькины глаза.
Шестилетний прапорщик
В светелке барчонок увалень, а на дворе в него вселялся неугомон. Носится, как ласточка. Выкрикивает что-то непонятное, но уж такое счастливое. Дуня, Машенька, Аннушка Вельяминовы припускаются за братцем – на самом деле он им дядюшка, – и звон тут, и вихрь, прыжки с крыльца, кувырки с горы, взлеты на гору с криками, с визгами.
Одно останавливало Васеньку. Он даже замирал, когда, пусть даже издали, видел турчанку Сальху – Елизавету Дементьевну, ключницу. Она проходила мимо него в доме, она не видела его во дворе, хотя иной раз была совсем рядом. Она не ласкала его, не окликала и никогда не оглядывалась.
Может, поэтому во всей усадьбе была единственная дверь, перед которой он обмирал. Та дверь вела во флигель, где жила ключница. Ему было стыдно и страшно, но он, не умея пересилить терзающую тягу, прибегал к этой двери, стоял, ждал и, наверное, умер бы, если бы она вдруг отворилась.
Но он не умер, когда в летний зной увидел дверь отворенной. Он подкрался и заглянул в комнату. Елизавета Дементьевна сидела на ковре, по-турецки, скрестя ноги. В прекрасной ее руке, в длинных пальцах, как голубой цветок – пиала.
Елизавета Дементьевна повернула голову, увидела его, и глаза ее вскрикнули. Васенька отпрянул от двери и бросился бежать, и долго стоял среди сиреневых кустов, не желая идти к людям.
Однако ж все пошло по-прежнему, да ведь ничего я не случилось, но Мария Григорьевна углядела-таки Васенькино неспокойствие.
Развлекая, принялась читать ему и внучкам поэму немца Христофора Мартина Виланда «Оберон, царь волшебников». Языкам не была научена, читала по-русски, пересказ Василия Лёвшина. С Васеньки тут и сошла задумчивость. Объявил себя рыцарем Гюоном, всем репьям головы поотсекал. Меч ему Андрей Григорьевич из дуба выстругал, а Дементий Голимбиевский подарил старый охотничий рог. Мария Григорьевна тоже в стороне не осталась. Своими руками сшила алый плащ, а из старых сундуков достала треугольную шляпу.
Рыцарские игры Васенька не чаял без Маши Вельяминовой да без Аннушки Юшковой. Обеих внучек Мария Григорьевна держала при себе. Маша сиротка. Аннушка родилась недоношенной, жизни в ней было, как в пузырьке воздуха на луже, врачи помочь не умели, а бабушка не сдалась. В печурке выдержала, выходила, у Бога вымолила. Девочки и были Васиным воинством.
Однажды сгоряча забежали с Машей в заросли крапивы, и хоть на помощь зови.
– Я тебя спасу! – сказал Вася и проломил в крапиве тропу, сам острекался, а сестрицу уберег.
– Хочешь, тайну тебе открою? – страшным шепотом спросила Маша.
У Васи пылали руки и ноги, но страданий он не выказывал.
– Хочу.
– У меня мамы нет и у тебя нет. Когда мы вырастем, ты будешь папа, а я мама.
Маша наклонилась и поцеловала Васеньку в обе щечки.
Васенька снова загрустил.
– Уж такой уродился, – говорила о нем Мария Григорьевна. – То удержу не знает – юла, а то не растормошишь.
И впрямь. Был море-океан, стал озерцо тихое. Игры с девочками оставил, прилепился к Андрею Григорьевичу, к крестному.
Были они, что старый, что малый, – молчальники. Уединятся на пригорке, под зарослями сирени. Сидят, молчат. Перед ними луга, село Фатьяново, Васькова гора. Андрей Григорьевич повздыхает, возьмет из футляра скрипку, и пошел пожикивать смычком по струнам.
Окутает Васино сердечко золотом звуков да и пустит росток в небеса, под облако, и выше, выше, в синеву и до самого, должно быть, солнца. Вася голову подопрет кулачком, смотрит, смотрит. На клубящийся поток серебристых ив вдоль Семьюнки, на древние ветлы по берегам Выры, на изумрудную благодать влажного, теплого травяного царства.
– До слезы? – спросит Андрей Григорьевич.
– До слезы, – признается крестник.
– Ах, Вася, до слезы! Соловьи и скрипка – ничего лучше нет.
– А коростель?! – удивится Вася.
– Скрип-то?
– Се – голос лугов.
– Голос лугов, говоришь? – призадумается Андрей Григорьевич. – Доброе у тебя сердце, Вася. Такое сердце каждого, кого встретишь в жизни, обогреет и посветит каждому. Добро неиссякаемо, как солнце. Добро и есть дитя солнца.
Хорошо жилось барчонку в Мишенском, да ведь всё до поры. Вольная жизнь кончилась в самый разгар летнего счастья.
Сначала пришла бумага от тульского губернатора: сержант Астраханского полка Василий Андреевич Жуковский произведен в прапорщики.
Следом за письмом приехал Афанасий Иванович, привез из Москвы учителя-немца. Прапорщику было шесть лет, а грамоты не знал. Еким Иванович должен был научить барчонка чтению по-немецки и арифметике.