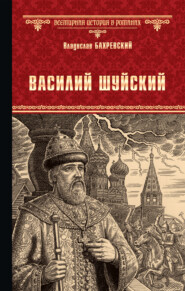По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Царская карусель. Мундир и фрак Жуковского
Серия
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– И еще ведь в каникулы?! Весь июль!
– Так, так! – голос надзирателя потеплел.
Дежурный наставник шел по коридору, звеня серебряным колокольчиком.
Отворились двери классов, ученики, высыпая в коридор, тотчас строились в две шеренги.
Леман подвел Жуковского к былиночке с кудряшками, розовыми щечками, с готовым для смешинки ртом.
– Теперь вы пара, – сказал надзиратель.
Мальчик ростом был на полголовы ниже.
– Вам сколько лет? – спросил мальчик.
– Четырнадцать.
– А мне тринадцать! – просиял и подал руку: – Александр.
– Великий?
– Нет, я не Македонский. Тургенев.
– Василий Жуковский.
– Фамилия незнакомая, однако ж звучит многообещающе.
Они понравились друг другу.
Шествие двинулось в столовую. Перед широко открытыми дверьми, а из дверей потоки света, у темной стены стол без скатерти и удивительная надпись: «Ослиный стол».
Четыре места из шести было занято.
– Большинство предпочитает неизвестность, но такая слава – тоже слава! – сверкнул озорными глазами Тургенев и указал на круглый, торжественно сервированный стол посреди столовой. – Здесь насыщают бренную плоть выдающиеся зубрилы и гении от Бога. Цвет пансионата, благороднейшие из благородных. Впрочем те, у порога, тоже благородные.
Кушанья подавали надзиратели.
– Счастливейшие минуты! – шепнул Тургенев. – Наши тираны, доносящие о каждом вздохе и чохе начальству, – в роли слуг.
Все было вкусно. Среди пансионеров Жуковский приметил ровесников, но добрая половина – дети. В низшие классы принимали с девяти.
– Казармой не попахивает? – наклонясь, спросил Тургенев.
– Мне казарма тоже нравилась.
– Вы – феномен! – признал обретенный друг, и в этом признании подвоха не было.
Первое огорчение пришлось испытать сразу после обеда. Оказалось, Александр – полупансионер. Живет на Моховой, в здании Университета, совсем рядом. Его батюшка Иван Петрович Тургенев – директор Университета, просветитель, отыскавший для России в провинциальном Симбирске светоча Карамзина.
– Не беда, что спать нам в разных дортуарах, – утешил Александр. – В восемь утра мы, которые полу-, уже в Пансионате и только в шесть вечера покидаем его благословенные стены… Записывайся к Баккаревичу на русскую словесность – и мы будем неразлучны.
Пансионат предлагал своим воспитанникам программу пространнейшую: история русская, всемирная, естественная, логика, математика, механика, физика, география, статистика, право, артиллерия, фортификация, архитектура, мифология, русский язык и словесность; языки: латынь, французский, немецкий, английский, итальянский, иностранная словесность, рисование, танцы, верховая езда, фехтование, ружейные приемы, военные построения. Всего осилить было невозможно, и пансионеры имели право избрания основных предметов. Выбор Жуковского: обе истории, словесность, языки французский и немецкий, рисование.
Жизнь определилась.
В два часа пополудни Тургенев привел его в аудиторию, где лекции читал Михаил Никитич Баккаревич.
«Аудитория» – пело в груди дивное и, может быть, самое-самое из всех ученейших слов.
Скамьи и столы – амфитиатром, под потолок. Жуковский зачарованно воззрился на высоты, но Тургенев положил руку на плечо, усаживая на скамью первого ряда.
– Парнас – путь к ослиному столу. Сверху профессор с кузнечика, а для нас он должен быть великаном.
Бессмертные
И вот он – великан.
Среднего роста, среднего лица… Михаил Никитич Баккаревич вошел в аудиторию, словно бы сомневаясь, сюда ли, а если сюда, – нужен ли? Просеменил к столу, уронил из под мышки несколько томиков и, не поднимая глаз на пансионеров, принялся искать среди книг нужную. Все разом отодвинул. Чуть ли не скачком очутился за кафедрой, и нет человека – пламень.
– Уже прекрасное светило
Простерло блеск свой по земли
И Божии дела открыло.
Мой дух, с веселием внемли;
Чудяся ясным толь лучам,
Представь, каков Зиждитель сам!
Вы узнаёте? О нет, вы только начинаете прозревать…
Когда бы смертным толь высоко
Возможно было возлететь,
Чтоб к солнцу бренно наше око
Могло, приблизившись, воззреть,
Тогда б со всех открылся стран
Горящий вечно Океан.
– О-ке-а-аан! – продекламировал Баккаревич, прикрывая глаза веками. – «Горящий вечно Океан». Кто из пиитов российских, из римских, греческих проникал мысленным взором в суть материи, в суть эфира Вселенной?
Там огненны валы стремятся
И не находят берегов;
Там вихри пламенны крутятся,
Борющись множество веков;
Там камни, как вода, кипят,
Горящи там дожди шумят.
Ломоносов! Ломоносов, други! Мы, сирые, отдали нынче сердца свои автору «Вертера», автору «Коварства и любви», Лоренсу, Стерну, Оссиану, Юнгу… Вот вы! – Баккаревич сбежал с кафедры и остановился перед Жуковским. – Вы впервой на моей лекции. Кому из властителей дум принадлежит ваше сердце?
– Оберону, – пролепетал Жуковский.
– Оберону. Стало быть, Христофору Мартину Виланду. Но я говорю вам: Россия забудет Сен-Пьеров, Юнгов и даже Макферсонов. Бессмертно имя Ломоносов!
– Так, так! – голос надзирателя потеплел.
Дежурный наставник шел по коридору, звеня серебряным колокольчиком.
Отворились двери классов, ученики, высыпая в коридор, тотчас строились в две шеренги.
Леман подвел Жуковского к былиночке с кудряшками, розовыми щечками, с готовым для смешинки ртом.
– Теперь вы пара, – сказал надзиратель.
Мальчик ростом был на полголовы ниже.
– Вам сколько лет? – спросил мальчик.
– Четырнадцать.
– А мне тринадцать! – просиял и подал руку: – Александр.
– Великий?
– Нет, я не Македонский. Тургенев.
– Василий Жуковский.
– Фамилия незнакомая, однако ж звучит многообещающе.
Они понравились друг другу.
Шествие двинулось в столовую. Перед широко открытыми дверьми, а из дверей потоки света, у темной стены стол без скатерти и удивительная надпись: «Ослиный стол».
Четыре места из шести было занято.
– Большинство предпочитает неизвестность, но такая слава – тоже слава! – сверкнул озорными глазами Тургенев и указал на круглый, торжественно сервированный стол посреди столовой. – Здесь насыщают бренную плоть выдающиеся зубрилы и гении от Бога. Цвет пансионата, благороднейшие из благородных. Впрочем те, у порога, тоже благородные.
Кушанья подавали надзиратели.
– Счастливейшие минуты! – шепнул Тургенев. – Наши тираны, доносящие о каждом вздохе и чохе начальству, – в роли слуг.
Все было вкусно. Среди пансионеров Жуковский приметил ровесников, но добрая половина – дети. В низшие классы принимали с девяти.
– Казармой не попахивает? – наклонясь, спросил Тургенев.
– Мне казарма тоже нравилась.
– Вы – феномен! – признал обретенный друг, и в этом признании подвоха не было.
Первое огорчение пришлось испытать сразу после обеда. Оказалось, Александр – полупансионер. Живет на Моховой, в здании Университета, совсем рядом. Его батюшка Иван Петрович Тургенев – директор Университета, просветитель, отыскавший для России в провинциальном Симбирске светоча Карамзина.
– Не беда, что спать нам в разных дортуарах, – утешил Александр. – В восемь утра мы, которые полу-, уже в Пансионате и только в шесть вечера покидаем его благословенные стены… Записывайся к Баккаревичу на русскую словесность – и мы будем неразлучны.
Пансионат предлагал своим воспитанникам программу пространнейшую: история русская, всемирная, естественная, логика, математика, механика, физика, география, статистика, право, артиллерия, фортификация, архитектура, мифология, русский язык и словесность; языки: латынь, французский, немецкий, английский, итальянский, иностранная словесность, рисование, танцы, верховая езда, фехтование, ружейные приемы, военные построения. Всего осилить было невозможно, и пансионеры имели право избрания основных предметов. Выбор Жуковского: обе истории, словесность, языки французский и немецкий, рисование.
Жизнь определилась.
В два часа пополудни Тургенев привел его в аудиторию, где лекции читал Михаил Никитич Баккаревич.
«Аудитория» – пело в груди дивное и, может быть, самое-самое из всех ученейших слов.
Скамьи и столы – амфитиатром, под потолок. Жуковский зачарованно воззрился на высоты, но Тургенев положил руку на плечо, усаживая на скамью первого ряда.
– Парнас – путь к ослиному столу. Сверху профессор с кузнечика, а для нас он должен быть великаном.
Бессмертные
И вот он – великан.
Среднего роста, среднего лица… Михаил Никитич Баккаревич вошел в аудиторию, словно бы сомневаясь, сюда ли, а если сюда, – нужен ли? Просеменил к столу, уронил из под мышки несколько томиков и, не поднимая глаз на пансионеров, принялся искать среди книг нужную. Все разом отодвинул. Чуть ли не скачком очутился за кафедрой, и нет человека – пламень.
– Уже прекрасное светило
Простерло блеск свой по земли
И Божии дела открыло.
Мой дух, с веселием внемли;
Чудяся ясным толь лучам,
Представь, каков Зиждитель сам!
Вы узнаёте? О нет, вы только начинаете прозревать…
Когда бы смертным толь высоко
Возможно было возлететь,
Чтоб к солнцу бренно наше око
Могло, приблизившись, воззреть,
Тогда б со всех открылся стран
Горящий вечно Океан.
– О-ке-а-аан! – продекламировал Баккаревич, прикрывая глаза веками. – «Горящий вечно Океан». Кто из пиитов российских, из римских, греческих проникал мысленным взором в суть материи, в суть эфира Вселенной?
Там огненны валы стремятся
И не находят берегов;
Там вихри пламенны крутятся,
Борющись множество веков;
Там камни, как вода, кипят,
Горящи там дожди шумят.
Ломоносов! Ломоносов, други! Мы, сирые, отдали нынче сердца свои автору «Вертера», автору «Коварства и любви», Лоренсу, Стерну, Оссиану, Юнгу… Вот вы! – Баккаревич сбежал с кафедры и остановился перед Жуковским. – Вы впервой на моей лекции. Кому из властителей дум принадлежит ваше сердце?
– Оберону, – пролепетал Жуковский.
– Оберону. Стало быть, Христофору Мартину Виланду. Но я говорю вам: Россия забудет Сен-Пьеров, Юнгов и даже Макферсонов. Бессмертно имя Ломоносов!