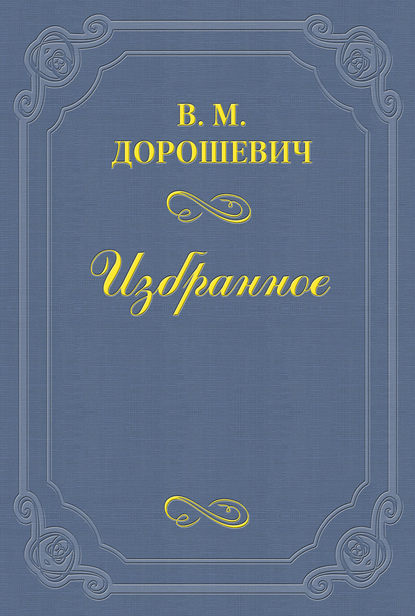По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вихрь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Всё кругом в ужасе пригнулось, сжалось.
А «Стефанов» едет за губернатором и говорит тем же радостным и весёлым голосом.
И до мерзости приличная фигура этого искательного юноши.
И тайная, робкая страсть, которою он считает обязанностью службы сгорать к губернаторской дочке.
Всё.
Всё противно, всё отвратительно.
Пётр Петрович чувствовал оскорбление, что Стефанов появился в его доме.
– Стефанов в доме Кудрявцева!
Это звучало дико.
Это заставляло Петра Петровича дрожать от обиды, от омерзения.
Всё, что он ненавидел, соединилось в эту минуту в этом «мальчишке».
«Как его приняли? Как ему, ему в голову могло прийти явиться к нам?! До чего же, до чего же я дошёл?!»
Стефанов говорил своим молодым, весёлым, радостным голосом.
Повторял, вероятно, в пятидесятый раз «удачное» сравнение, в новом успехе которого заранее был уверен.
– Это совсем похоже на бутылку квасу, в которую пустили изюмину. Всё заходило, зашипело, закипело, изюмина запрыгала, откуда-то пошли какие-то белые хлопья…
Пётр Петрович, на помня себя, дрожа, боясь, что сейчас раздастся смех, шагнул к двери.
Войти.
«Я не позволю в моём доме сравнивать мою родину с какой-то дрянной бутылкой квасу. Как вы смеете, мальчишка, ругаться над родиной и шутить в эти минуты? Подшучивать над родной матерью в то время, как она, израненная насмерть, истекает кровью. Как ты смел делать это в моём доме? Вон, мерзавец!»
Пётр Петрович уже взялся за портьеру чтобы отдёрнуть.
Но остановился.
«Сделать скандал с мальчишкой! Только этого ещё мне недоставало!»
Что же случилось? Как могло это случиться?
II
Он, Кудрявцев.
– Ваше имя – знамя! – сказал, весь дрожа от волнения, на одном из банкетов какой-то земский врач, которого он никогда не знал и не видывал раньше.
И эти слова были покрыты громом аплодисментов.
Всё собрание, полторы тысячи человек, поднялось и стоя аплодировало Петру Петровичу.
Аплодировало десять минут.
Стоял сплошной, неумолчный треск.
Словно что-то рушилось. Словно трещали и ломались какие-то заборы и преграды.
Пётр Петрович стоял, опустив голову, словно выслушивая приговор, обязываясь подчиниться ему.
Стоял не кланяясь, задыхаясь от поднимавшихся слёз.
Повторяя всей восторженной, взволнованной, в какую-то недосягаемую, святую высь вознёсшейся душой «Ганнибалову клятву»:
– Умереть, но не опустить знамени. Ни на вершок. Ни на четверть вершка. Чтоб никому, никому не показалось, что знамя поколебалось. Чтоб не раздалось крика ужаса одних, крика радости других.
Его душа «принимала святое крещение в вожди».
Так он определил, потом в своих записках то, что пережил в эти минуты.
«Гражданин» звал его не иначе, как Равашолем.
Губернатор…
Губернатор человек военный, говорил, что:
– Если б в Версале был дельный полицмейстер, никакой бы и революции во Франции не было. И Мирабо бы не пикнул.
Губернатор звал его «Мирабо».
И говорил о нём не иначе, как приходя в сильнейшее волнение и сжимая кулак, как «дельный полицмейстер»:
– Этот Мирабо у меня-с. Это слава Богу, что у меня-с. Я вот его где держу. И посматриваю: тут ли? Да-с! Это – Мирабо!
Кажется, губернатор даже гордился, что именно у него «проживает» Мирабо. Как гордится участковый пристав, что у него в участке живёт миллионер.
«Кудрявцев» – это стало именем нарицательным.
«Кудрявцевых у нас мало», писали одни газеты, когда решались рискнуть упомянуть его имя, вопреки циркулярам.
«Кудрявцевых развелось слишком много», писали другие газеты невозбранно, во всякое время.
А «Московские Ведомости»…
Однажды, в одну из самых трудных минут, Пётр Петрович с весёлым, громким смехом вошёл к Анне Ивановне с «Московскими Ведомостями».
– Аня! Новость!