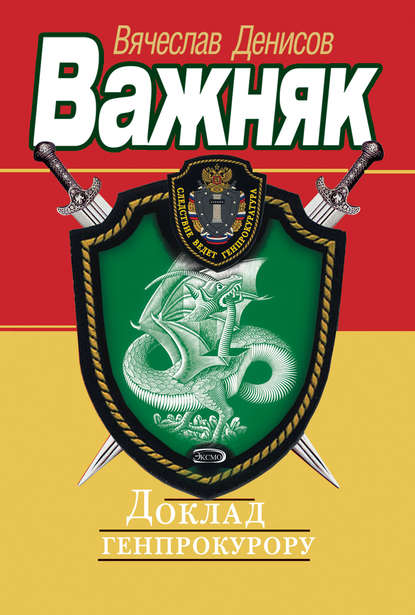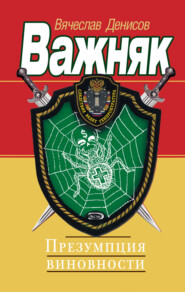По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Доклад генпрокурору
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Доклад генпрокурору
Вячеслав Юрьевич Денисов
Важняк
«Цементные короли» сибирского города заодно с цементом приторговывают гексогеном, а ненужных свидетелей убирают без лишнего шума. Но убийство депутата Госдумы замять не удалось, и за дело берется следователь Генпрокуратуры Иван Кряжин. Он приготовил хитрую ловушку для оборотистых бизнесменов, а они сделали то же самое для него. «Важняк» попался первым: кассета с весьма пикантным компроматом не только сведет на нет результаты расследования, но и поставит крест на его карьере. Перед Кряжиным стоит выбор: играть по правилам дельцов или навязать им свои, ведь его ловушка хитрее...
Вячеслав Денисов
Доклад Генпрокурору
Тайна крупных состояний, возникших неизвестно как, сокрыта в преступлении, но оно забыто, потому что чисто сделано.
Оноре де Бальзак.
Человек, желающий найти мудреца, должен быть мудрым сам.
Ксенофан Колофонский
Часть первая
Глава первая
«Живем однова...» – подумал Иннокентий Варанов, литератор от бога, им же обделенный, сполоснул рот остатками вчерашнего пива (пить не стал – резанет горло кислотой, сожмет тело тоской по здоровой влаге), сунул ноги в кроссовки, завязал уверенными движениями шнурки и вышел из дома, что во 2-м Резниковском переулке.
Денег в карманах было до неприятного мало, что-то около шести рублей с обычным для похмельного утра обычного бродяги набором копеек. На те деньги бродяге не суждено не только выпить для удовольствия, но даже вступить в триединую формулу мужской солидарности невозможно. Что те шесть рублей? – треть в бутылке пива. А бутылку пива, как известно, на троих не пьют. Задержи его на улице любой милиционер да проверь карманы, так и выйдет. Вклиниться же в компанию знакомых, страдающих аналогичным заболеванием, вряд ли удастся (задолжал Варанов всем помногу и подолгу), а потому надежда была лишь на самого себя, болезного.
В районе пересечения переулка с одноименной улицей в голове Иннокентия Игнатьевича, как у настоящего бездомного, не озабоченного трудовой деятельностью, должны были зашевелиться мысли о наиболее доступных способах получения финансового подкрепления из известных вариантов, предоставляемых судьбой. И зашевелились.
Упоминание о судьбе не было метафорой, обязательной частью высокого штиля при изложении идей в голове пьяницы. Штиль – он был, но относился, скорее, к синоптическим определениям, нежели к литературным. Что же касаемо судьбы, то это самое что ни есть настоящее, точное мерило существования любого безработного пьяницы, остро переживающего абстинентный синдром, на коего, пьяницу, собственно, и был очень похож Иннокентий Игнатьевич Варанов. Человек с именем, но без роду, с местом жительства, но неопределенным. Как и без определенных занятий. Словом, философ в душе и пьяница по натуре.
Оглядев себя снизу вверх, Варанов убедился – так и есть.
Вернемся к судьбе. Она постоянно благоволила Варанову, периодически подкидывая случайные заработки на совершенно ровном месте. Вот и сейчас, выйдя на Резниковскую, Иннокентий (Кеша – как его звали в прошлом наиболее близкие коллеги-философы) потянулся, стараясь в этом жизнерадостном жесте не зацепиться за прохожего. Делать это в такое время суток не стоило, так как легко можно было влиться в пешеходный поток, выбраться из которого потом посчастливится лишь в районе станции метро «Сокол». Потянулся, послушал хруст суставов и впал в раздумье.
Любой прохожий, не торопись он сейчас на службу и окажись повнимательней, сказал бы – в тревожное раздумье.
Место, что он выбрал для размышлений, было подобрано со знанием дела: небольшая выемка, обозначающая подъезд с высоким крыльцом. Именно отсюда Иннокентий Варанов решил планировать день своей новой жизни. Почему новой, о том речь позже.
Имея шесть с полтиной в кармане, особо благородные поступки, как то: благотворительность, Пушкинские чтения или приезд к детдомовцам, не запланируешь, понятно. Тем паче, что ему мало кто будет в тех детдомах рад. Как, впрочем, и на Пушкинских чтениях. А зря. Ей-богу, зря.
Когда-то давно (лет двадцать назад) Иннокентий закончил филфак Саратовского института. Любил он литературу, русский роман любил, французские XIX столетия повести славил, античную драму почитал (в смысле – уважал) и преподавал по выпуске сначала в школе, а потом, увлекшись, на филфаке Саратовского института. Декламировал студентам «Эдипа-царя» Софокла, «Двух менехмов» Плавта, читал по ролям «Трильби» Нодье, но в начале девяностых филфак ликвидировали (образовали факультет кооперативной торговли), и преподавателю Варанову, дабы не нарушать его конституционных прав, предложили: либо школа в Смородинове, что под Козихой в Белгородской области, либо интернат для детей, требующих особого внимания, в Раздольном у Чанов, что за Уралом. Неготовый к таким жизненным коллизиям литературовед Варанов растерялся, собрал чемодан вещей с чемоданом конспектов и томиком Альфреда де Виньи и отправился покорять Москву.
Немного, чтобы прояснить дальнейшие пертурбации в судьбе еще молодого преподавателя, отвлечемся. Это отступление сделать можно, а потому, как говорят некоторые известные люди, должно.
Москва – город счастливых совпадений, но милостива она лишь к тем, кто шагает по ней, ничего не требуя, довольствуясь малым. К тем, кто не выясняет, какую кровь она несет в своих бесконечных кровеносных сосудах улиц, вливающихся в артерии, не пытается проверить на крепость нервишки измочаленных постоянным «Вихрем» милиционеров и не курит на ее аэродромах. Например – на Красной площади. Тех же, кто прибывает ее покорять, Москва опускает на свое дно и ставит на колени. Немало случаев известно, не стоит тратить время на судьбы тех, кого унесли артерии этого года к клоаке, да там и оставили.
Возвращаемся к Варанову.
Москва... Как много в этом звуке. Как много в нем отозвалось.
Любой, кто приезжает в Москву, чтобы его не сочли за идиота, первым делом идет на Красную площадь, что у мавзолея Ленина, потом на Арбат. Даже если сразу после этого тебя шваркнут трубой по голове и обчистят в каком-нибудь проходном дворе на Варварке, то по приезде домой в село Глухово ты можешь сказать с чистым сердцем:
– Я б-был в М-москве. Я, блин, видел ея.
На Красной Варанов побывал сразу по приезде. Ничего особенного. Единственный вопрос, который встал у него в голове сразу после выхода оттуда, был: как не ломает на ней ноги почетный караул?
Впрочем, тревога за ноги тех, кто ежедневно чеканит по двести десять шагов туда-сюда от караульного помещения до мавзолея, скоро рассеялась. Варанов нашел Арбат и побрел по нему, тая? печаль в своем сердце, в самом сердце Москвы. Совпадение напрашивалось на издание небольшого сборника стихов, но вдруг, проходя мимо четвертого ряда фонарей, Варанов полюбил.
Он полюбил внезапно, вспыхнув, как спичка. Увлекся как раз в тот момент, когда уныло размышлял над предложенным на Московской бирже труда вариантом: Белоголовица – деревня под Козихой, где-то под Москвой.
К черту литературу! – вон тот мужик в рыжей кацавейке только что продал полотно пятьдесят на восемьдесят какому-то японцу и получил от него двести долларов.
Двести долларов! – да таких денег Варанов просто не видел. А картина? – два круга, один из которых красный, второй вообще не закрашенный, кривая рожа между ними, и все это «искусство» на голубом фоне. Двести долларов, минус краски на сто рублей, минус рамка на столько же, за вычетом двух часов воспоминаний вчерашнего похмельного сна и отображения его на куске холстины ценою десять рублей за погонный метр.
Так Варанов, человек одухотворенный, из глубинки, почитающий античную литературу и Гомера, полюбил живопись. Невелики перемены, скажет обыватель. Живопись, поэзия – все едино, если ты человек от искусства. И Иннокентий Игнатьевич, еще неделю назад преподававший в вузе литературу, отправился покорять Москву новым, прибывшим в нее гением.
Некоторая сумма у него имелась, ее он получил на бирже (не путать с ММВБ), и всю, за исключением пары сотен, потратил на масляные краски, холстину, мольберт и кисти. Ему посоветовали брать колонковые – беличьи же?стки – и лучше подходят для новичков, и он взял.
Литература заставляет создавать образы мысленные, живопись – реально существующие, ощутимые зрением, поэтому в последней Варанов полюбил импрессионизм, а в нем – кубизм. В кубизме людям от литературы, впервые взявшим в руки кисти, как правило, легче передавать окружающим свою душу.
Свое первое полотно, – оно называлось «Несовместимость», – Варанов продавал три месяца и чуть не умер с голоду. Собратья по кисти его жалели, кормили, и выжил он благодаря исключительно художественному братству. Девяносто дней новоиспеченный художник сидел и не понимал, почему кубы справа и слева от него уходят за доллары, а его собственные стоят на месте, и на них никто даже не смотрит.
– Ты пойми, – увещевал Варанова арбатский старожил Пепин по прозвищу Репин, – мало написать, нужно душу вложить.
Как вкладывать в кубы душу, Варанов не знал, поэтому стал робким маринистом. Его «Парус надежды» качался в потоке туристов около трех недель, пока к нему не подошел известный мастер морских батальных сцен Вайс. Варанова жалели все: что он тут, на Арбате, делает, тоже все знали – они все тут делали это, а потому доброхотов не убавлялось.
– Что это? – спросил Вайс, ткнув пальцем в центр холста.
– Это, – сгорая от стыда за неумело выписанные барашки волн, пролепетал Варанов, – матрос плывет на яхте.
Сказал и на всякий случай добавил:
– По морю.
– Плавает говно, – резюмировал бывший моряк Вайс. – По морю ходют. А у тебя этот матрос... Кстати, где он? А? Это матрос? Ну, так вот, он действительно плывет.
И тоже добавил:
– На яхте... Бросай ты это дело.
«Несовместимость» общими усилиями втюхали туристу-докеру из Глазго за сотню, «Парус» поменяли на купюру с изображением президента Гранта какому-то негру из Чада. Знающий английский язык портретист Смелко выступил в качестве переводчика и впоследствии, когда восхищенный негр ушел, унося холст, пояснил, что покупатель живет в городишке Умм-Шалуба, что на западе Сахары, паруса не видел ни разу, а потому сделку можно считать удачно завершившейся.
Большая часть кубистов-пейзажистов была, как и Варанов, бездомной, но считала это не пороком, а совершенством души. Истый художник должен быть свободен от всего, в том числе и от квартплаты, которую так нагло и беззастенчиво навязывают московские власти. Жила эта когорта свободных художников в обветшалом доме, готовящемся к сносу, на Сахарной; на свою нужду откладывала, но малую толику в общак вносила. Тем и существовала на общежитских началах. Варанов же, прибившийся к компании работников кисти и цвета, пришелся им по нраву, так как знал годы жизни Джузеппе Бальзамо (Калиостро) и что «прозопопея» – это не мат, а стилистический троп.
В минуты отдохновения Варанов, выпивая портвейн мастеров и закусывая их же колбасой, рассказывал художникам о судьбе Шатобриана, а на Арбате, проявив недюжинный талант словохота, убеждал туристов купить выставленные полотна на языке Стендаля в первоисточнике.
– Просила Третьяковка, – говорил он приезжим из Испании, кивая на геометрию Пепина, – но за?ла импрессионизма там еще не готова. Быть может, эта картина найдет свое место в Прадо...
– Tretyakov Gallery? – удивлялись не понимающие по-русски и еще меньше по-старофранцузски испанцы.
Вячеслав Юрьевич Денисов
Важняк
«Цементные короли» сибирского города заодно с цементом приторговывают гексогеном, а ненужных свидетелей убирают без лишнего шума. Но убийство депутата Госдумы замять не удалось, и за дело берется следователь Генпрокуратуры Иван Кряжин. Он приготовил хитрую ловушку для оборотистых бизнесменов, а они сделали то же самое для него. «Важняк» попался первым: кассета с весьма пикантным компроматом не только сведет на нет результаты расследования, но и поставит крест на его карьере. Перед Кряжиным стоит выбор: играть по правилам дельцов или навязать им свои, ведь его ловушка хитрее...
Вячеслав Денисов
Доклад Генпрокурору
Тайна крупных состояний, возникших неизвестно как, сокрыта в преступлении, но оно забыто, потому что чисто сделано.
Оноре де Бальзак.
Человек, желающий найти мудреца, должен быть мудрым сам.
Ксенофан Колофонский
Часть первая
Глава первая
«Живем однова...» – подумал Иннокентий Варанов, литератор от бога, им же обделенный, сполоснул рот остатками вчерашнего пива (пить не стал – резанет горло кислотой, сожмет тело тоской по здоровой влаге), сунул ноги в кроссовки, завязал уверенными движениями шнурки и вышел из дома, что во 2-м Резниковском переулке.
Денег в карманах было до неприятного мало, что-то около шести рублей с обычным для похмельного утра обычного бродяги набором копеек. На те деньги бродяге не суждено не только выпить для удовольствия, но даже вступить в триединую формулу мужской солидарности невозможно. Что те шесть рублей? – треть в бутылке пива. А бутылку пива, как известно, на троих не пьют. Задержи его на улице любой милиционер да проверь карманы, так и выйдет. Вклиниться же в компанию знакомых, страдающих аналогичным заболеванием, вряд ли удастся (задолжал Варанов всем помногу и подолгу), а потому надежда была лишь на самого себя, болезного.
В районе пересечения переулка с одноименной улицей в голове Иннокентия Игнатьевича, как у настоящего бездомного, не озабоченного трудовой деятельностью, должны были зашевелиться мысли о наиболее доступных способах получения финансового подкрепления из известных вариантов, предоставляемых судьбой. И зашевелились.
Упоминание о судьбе не было метафорой, обязательной частью высокого штиля при изложении идей в голове пьяницы. Штиль – он был, но относился, скорее, к синоптическим определениям, нежели к литературным. Что же касаемо судьбы, то это самое что ни есть настоящее, точное мерило существования любого безработного пьяницы, остро переживающего абстинентный синдром, на коего, пьяницу, собственно, и был очень похож Иннокентий Игнатьевич Варанов. Человек с именем, но без роду, с местом жительства, но неопределенным. Как и без определенных занятий. Словом, философ в душе и пьяница по натуре.
Оглядев себя снизу вверх, Варанов убедился – так и есть.
Вернемся к судьбе. Она постоянно благоволила Варанову, периодически подкидывая случайные заработки на совершенно ровном месте. Вот и сейчас, выйдя на Резниковскую, Иннокентий (Кеша – как его звали в прошлом наиболее близкие коллеги-философы) потянулся, стараясь в этом жизнерадостном жесте не зацепиться за прохожего. Делать это в такое время суток не стоило, так как легко можно было влиться в пешеходный поток, выбраться из которого потом посчастливится лишь в районе станции метро «Сокол». Потянулся, послушал хруст суставов и впал в раздумье.
Любой прохожий, не торопись он сейчас на службу и окажись повнимательней, сказал бы – в тревожное раздумье.
Место, что он выбрал для размышлений, было подобрано со знанием дела: небольшая выемка, обозначающая подъезд с высоким крыльцом. Именно отсюда Иннокентий Варанов решил планировать день своей новой жизни. Почему новой, о том речь позже.
Имея шесть с полтиной в кармане, особо благородные поступки, как то: благотворительность, Пушкинские чтения или приезд к детдомовцам, не запланируешь, понятно. Тем паче, что ему мало кто будет в тех детдомах рад. Как, впрочем, и на Пушкинских чтениях. А зря. Ей-богу, зря.
Когда-то давно (лет двадцать назад) Иннокентий закончил филфак Саратовского института. Любил он литературу, русский роман любил, французские XIX столетия повести славил, античную драму почитал (в смысле – уважал) и преподавал по выпуске сначала в школе, а потом, увлекшись, на филфаке Саратовского института. Декламировал студентам «Эдипа-царя» Софокла, «Двух менехмов» Плавта, читал по ролям «Трильби» Нодье, но в начале девяностых филфак ликвидировали (образовали факультет кооперативной торговли), и преподавателю Варанову, дабы не нарушать его конституционных прав, предложили: либо школа в Смородинове, что под Козихой в Белгородской области, либо интернат для детей, требующих особого внимания, в Раздольном у Чанов, что за Уралом. Неготовый к таким жизненным коллизиям литературовед Варанов растерялся, собрал чемодан вещей с чемоданом конспектов и томиком Альфреда де Виньи и отправился покорять Москву.
Немного, чтобы прояснить дальнейшие пертурбации в судьбе еще молодого преподавателя, отвлечемся. Это отступление сделать можно, а потому, как говорят некоторые известные люди, должно.
Москва – город счастливых совпадений, но милостива она лишь к тем, кто шагает по ней, ничего не требуя, довольствуясь малым. К тем, кто не выясняет, какую кровь она несет в своих бесконечных кровеносных сосудах улиц, вливающихся в артерии, не пытается проверить на крепость нервишки измочаленных постоянным «Вихрем» милиционеров и не курит на ее аэродромах. Например – на Красной площади. Тех же, кто прибывает ее покорять, Москва опускает на свое дно и ставит на колени. Немало случаев известно, не стоит тратить время на судьбы тех, кого унесли артерии этого года к клоаке, да там и оставили.
Возвращаемся к Варанову.
Москва... Как много в этом звуке. Как много в нем отозвалось.
Любой, кто приезжает в Москву, чтобы его не сочли за идиота, первым делом идет на Красную площадь, что у мавзолея Ленина, потом на Арбат. Даже если сразу после этого тебя шваркнут трубой по голове и обчистят в каком-нибудь проходном дворе на Варварке, то по приезде домой в село Глухово ты можешь сказать с чистым сердцем:
– Я б-был в М-москве. Я, блин, видел ея.
На Красной Варанов побывал сразу по приезде. Ничего особенного. Единственный вопрос, который встал у него в голове сразу после выхода оттуда, был: как не ломает на ней ноги почетный караул?
Впрочем, тревога за ноги тех, кто ежедневно чеканит по двести десять шагов туда-сюда от караульного помещения до мавзолея, скоро рассеялась. Варанов нашел Арбат и побрел по нему, тая? печаль в своем сердце, в самом сердце Москвы. Совпадение напрашивалось на издание небольшого сборника стихов, но вдруг, проходя мимо четвертого ряда фонарей, Варанов полюбил.
Он полюбил внезапно, вспыхнув, как спичка. Увлекся как раз в тот момент, когда уныло размышлял над предложенным на Московской бирже труда вариантом: Белоголовица – деревня под Козихой, где-то под Москвой.
К черту литературу! – вон тот мужик в рыжей кацавейке только что продал полотно пятьдесят на восемьдесят какому-то японцу и получил от него двести долларов.
Двести долларов! – да таких денег Варанов просто не видел. А картина? – два круга, один из которых красный, второй вообще не закрашенный, кривая рожа между ними, и все это «искусство» на голубом фоне. Двести долларов, минус краски на сто рублей, минус рамка на столько же, за вычетом двух часов воспоминаний вчерашнего похмельного сна и отображения его на куске холстины ценою десять рублей за погонный метр.
Так Варанов, человек одухотворенный, из глубинки, почитающий античную литературу и Гомера, полюбил живопись. Невелики перемены, скажет обыватель. Живопись, поэзия – все едино, если ты человек от искусства. И Иннокентий Игнатьевич, еще неделю назад преподававший в вузе литературу, отправился покорять Москву новым, прибывшим в нее гением.
Некоторая сумма у него имелась, ее он получил на бирже (не путать с ММВБ), и всю, за исключением пары сотен, потратил на масляные краски, холстину, мольберт и кисти. Ему посоветовали брать колонковые – беличьи же?стки – и лучше подходят для новичков, и он взял.
Литература заставляет создавать образы мысленные, живопись – реально существующие, ощутимые зрением, поэтому в последней Варанов полюбил импрессионизм, а в нем – кубизм. В кубизме людям от литературы, впервые взявшим в руки кисти, как правило, легче передавать окружающим свою душу.
Свое первое полотно, – оно называлось «Несовместимость», – Варанов продавал три месяца и чуть не умер с голоду. Собратья по кисти его жалели, кормили, и выжил он благодаря исключительно художественному братству. Девяносто дней новоиспеченный художник сидел и не понимал, почему кубы справа и слева от него уходят за доллары, а его собственные стоят на месте, и на них никто даже не смотрит.
– Ты пойми, – увещевал Варанова арбатский старожил Пепин по прозвищу Репин, – мало написать, нужно душу вложить.
Как вкладывать в кубы душу, Варанов не знал, поэтому стал робким маринистом. Его «Парус надежды» качался в потоке туристов около трех недель, пока к нему не подошел известный мастер морских батальных сцен Вайс. Варанова жалели все: что он тут, на Арбате, делает, тоже все знали – они все тут делали это, а потому доброхотов не убавлялось.
– Что это? – спросил Вайс, ткнув пальцем в центр холста.
– Это, – сгорая от стыда за неумело выписанные барашки волн, пролепетал Варанов, – матрос плывет на яхте.
Сказал и на всякий случай добавил:
– По морю.
– Плавает говно, – резюмировал бывший моряк Вайс. – По морю ходют. А у тебя этот матрос... Кстати, где он? А? Это матрос? Ну, так вот, он действительно плывет.
И тоже добавил:
– На яхте... Бросай ты это дело.
«Несовместимость» общими усилиями втюхали туристу-докеру из Глазго за сотню, «Парус» поменяли на купюру с изображением президента Гранта какому-то негру из Чада. Знающий английский язык портретист Смелко выступил в качестве переводчика и впоследствии, когда восхищенный негр ушел, унося холст, пояснил, что покупатель живет в городишке Умм-Шалуба, что на западе Сахары, паруса не видел ни разу, а потому сделку можно считать удачно завершившейся.
Большая часть кубистов-пейзажистов была, как и Варанов, бездомной, но считала это не пороком, а совершенством души. Истый художник должен быть свободен от всего, в том числе и от квартплаты, которую так нагло и беззастенчиво навязывают московские власти. Жила эта когорта свободных художников в обветшалом доме, готовящемся к сносу, на Сахарной; на свою нужду откладывала, но малую толику в общак вносила. Тем и существовала на общежитских началах. Варанов же, прибившийся к компании работников кисти и цвета, пришелся им по нраву, так как знал годы жизни Джузеппе Бальзамо (Калиостро) и что «прозопопея» – это не мат, а стилистический троп.
В минуты отдохновения Варанов, выпивая портвейн мастеров и закусывая их же колбасой, рассказывал художникам о судьбе Шатобриана, а на Арбате, проявив недюжинный талант словохота, убеждал туристов купить выставленные полотна на языке Стендаля в первоисточнике.
– Просила Третьяковка, – говорил он приезжим из Испании, кивая на геометрию Пепина, – но за?ла импрессионизма там еще не готова. Быть может, эта картина найдет свое место в Прадо...
– Tretyakov Gallery? – удивлялись не понимающие по-русски и еще меньше по-старофранцузски испанцы.
Другие электронные книги автора Вячеслав Юрьевич Денисов
Сломанное время




 4.6
4.6
Забытые заживо




 4.6
4.6