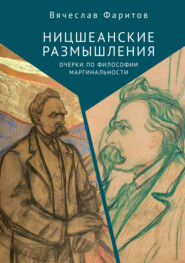По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Идея вечного возвращения в русской поэзии XIX – начала XX веков
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Умом громам повелеваю,
Я царь – я раб – я червь – я Бог!
Но, будучи я столь чудесен,
Отколе происшел? – безвестен;
А сам собой я быть не мог.
«Ничто» переходит во «все». Условием этого перехода у Державина выступает осознание единства божественной и человеческой природы.
У Пушкина эта философская проблема получает иное решение. В поисках надежного и устойчивого бытия сознание склонно обращаться к трансценденции – коль скоро в этом мире оно не находит такого бытия. Так сознание бежит от этого мира в сферу потустороннего, и Пушкин сначала испытывает именно этот путь:
Конечно, дух бессмертен мой,
Но, улетев в миры иные,
Ужели с ризой гробовой
Все чувства брошу я земные
И чужд мне будет мир земной?
Ужели там, где всё блистает
Нетленной славой и красой,
Где чистый пламень пожирает
Несовершенство бытия,
Минутной жизни впечатлений
Не сохранит душа моя,
Не буду ведать сожалений,
Тоску любви забуду я?..
«Конечно, дух бессмертен мой». Под духом здесь понимается то же самое, что и сознание, душа (третий стих строфы снизу), Я (последний стих). От потока становления герой обращается к Я как к самотождественной сущности, способной дать искомую опору. Эта сущность наделяется бессмертием, вечным существованием. Однако это вечность трансценденции, вечность, противостоящая конечному земному бытию. В этом плане особую значимость приобретает вводное слово «конечно» – такая конструкция придает утверждению явно ощутимый оттенок сомнения, неуверенности. Сильнее и утвердительнее звучало бы: «Дух бессмертен мой». Испытав ужас небытия, герой пытается найти убежище в вере в трансценденцию. Но, в отличие от героя державинской оды, он скорее хочет верить, чем верит на самом деле. Любовь к земному существованию не позволяет ему принять окончательное решение в пользу потустороннего мира: «Ужели с ризой гробовой все чувства брошу я земные?».
Так в тексте появляется вторая конструктивная оппозиция: «иные миры» и «мир земной». В ином мире «все блистает нетленной славой и красой» и «чистый пламень пожирает несовершенство бытия». Но именно это требование отвратиться от всего становящегося и конечного земного мира герой Пушкина не может до конца исполнить: «минутной жизни впечатленья» он не согласен обменять на «нетленную славу и красу» потустороннего мира. Даже от сожаления и тоски он не хочет отказаться ради блеска потустороннего мира: «Не буду ведать сожалений, тоску любви забуду я?». Пушкин готов сказать «Да» этой жизни даже в ее негативных проявлениях: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». Но ту же мысль позднее выскажет Ницше устами Заратустры: «Боль еще и радость, проклятие еще и благословение, ночь еще и солнце, – уходите или вы узнаете: мудрец еще и безумец. Говорили ли вы Да какой-нибудь радости? О друзья мои, тогда вы говорили Да и всякой скорби. Все сцеплено, нанизано, все влюблено одно в другое».[72 - Ницше Ф. Полное собрание сочинений: В 13 томах. Т. 4: Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого / Ф. Ницше. – М.: Культурная революция, 2007. – С. 326.] Это – формула вечного возвращения, которую признает как Пушкин, так и Ницше.
В «Тавриде» эта мысль высказывается не сразу, автор движется к ней через блуждания и окольные пути. Пока лирический герой пытается найти определенный компромисс между «метафизической потребностью» и верностью земному существованию:
Любви! Но что же за могилой
Переживет еще меня?
Во мне бессмертна память милой,
Что без нее душа моя?
Бессмертием теперь наделяется не абстрактное Я, но память, сохраняющая впечатления той самой минутной жизни. Абстрактное Я без памяти – это то же самое Ничто, «пустой призрак», о котором говорилось в начале стихотворения. Такое бессмертие равнозначно небытию. Тем самым трансценденция ставится под вопрос, лишается своей полноты и самодостаточности: по крайней мере, трансценденции необходима соотнесенность с земным миром, иначе она – Ничто. Трансцендентное теперь ориентировано на имманентное, земное:
Зачем не верить вам, поэты?
Да, тени тайною толпой
От берегов печальной Леты
Слетаются на брег земной.
Они уныло посещают
Места, где жизнь была милей,
И в сновиденьях утешают
Сердца покинутых друзей…
Они, бессмертие вкушая,
В Элизий поджидают их,
Как в праздник ждет семья родная
Замедливших гостей своих…
«Зачем не верить вам, поэты?». Эта конструкция (Зачем не… Да,…) достаточно убедительно демонстрирует, что поэтам, в сущности, можно и не верить, но при желании – почему бы и нет? Речь идет о вымыслах, которые мы можем принять, не забывая о том, что это – вымыслы. Пушкин обращается к сказаниям древних поэтов.
Например, у Гомера:
Ты не умрешь и не встретишь судьбы в многоконном Аргосе;
Ты за пределы земли, на поля Елисейские будешь
Послан богами – туда, где живет Радамант златовласый
(Где пробегают светло беспечальные дни человека,
Где ни метелей, ни ливней, ни хладов зимы не бывает;
Где сладкошумно летающий веет Зефир, Океаном
С легкой прохладой туда посылаемый людям блаженным),
Ибо супруг ты Елены и зять громовержца Зевеса.
(«Одиссея», V, 560–570. Перевод В. Жуковского)
Характерно, что Пушкин берет не христианские, но языческие представления о загробном мире. Здесь еще нет жесткого разграничения имманентного и трансцендентного, и поэтому:
…тени тайною толпой
От берегов печальной Леты
Слетаются на брег земной.
Они уныло посещают
Места, где жизнь была милей,
И в сновиденьях утешают
Сердца покинутых друзей…
Тем не менее, все это – «мечты поэзии прелестной»:
Мечты поэзии прелестной,
Благословенные мечты!
Люблю ваш сумрак неизвестный
И ваши тайные цветы.
В этих стихах древняя поэзия одновременно прославляется («Благословенные мечты!») и подвергается снижению: герой искал оплота и бессмертия, а нашел «сумрак неизвестный».
Со следующих стихов начинается кульминационный поворот, который приведет от этого неизвестного сумрака к ясному полдню, к вечному возвращению:
Так, если удаляться можно
Оттоль, где вечный свет горит,
Где счастье вечно, непреложно,
Мой дух к Юрзуфу прилетит.
Счастливый край, где блещут воды,
Лаская пышные брега,
И светлой роскошью природы
Озарены холмы, луга,
Где скал нахмуренные своды
………………………………………….
От сумеречных фантазий о берегах Леты и Елисейских полях, от вечного света и непреложного счастья потустороннего поэт обращается к другим берегам и лугам, которые он некогда посещал в этой жизни. Поэтическим топонимам (Лета, Элизий) теперь противопоставляется Юрзуф с его пышными берегами (вместо берегов печальной Леты), холмами, лугами и проч. Сумраку неизвестному противополагается светлая роскошь природы. Пока это только мечты и воспоминания, но они уже получили совершенно иную направленность: от трансцендентного и мифопоэтического к земному, к тем «минутным жизни впечатлениям», с которыми поэт не согласился расстаться в обмен на нетленную славу и красу потустороннего.
Впечатления о пребывании в Юрзуфе отражены в поэтических текстах Пушкина (стихотворения, «Бахчисарайский фонтан» и «Евгений Онегин»), а также в письмах. Завершающая эту часть стихотворения разрядка отсылает ко всему корпусу этих текстов, так что пропуск в потенции оказывается максимальным заполнением. Приведем фрагмент из письма 1824 года: «Из Феодосии до самого Юрзуфа ехал я морем. Всю ночь не спал. Луны не было, звезды блистали; передо мною, в тумане, тянулись полуденные горы…. «Вот Чатырдаг», сказал мне капитан. Я не различил его, да и не любопытствовал. Перед светом я заснул. Между тем корабль остановился в виду Юрзуфа. Проснувшись, увидел я картину пленительную: разноцветные горы сияли; плоские кровли хижин татарских издали казались ульями, прилепленными к горам; тополи, как зеленые колонны, стройно возвышались между ими; справа огромный Аю-Даг…. и кругом это синее, чистое небо и светлое море, и блеск и воздух полуденный…..».[73 - Переписка А. С. Пушкина. В двух томах: Т. 1. – М.: Художественная литература, 1982. – С. 638.]
Я царь – я раб – я червь – я Бог!
Но, будучи я столь чудесен,
Отколе происшел? – безвестен;
А сам собой я быть не мог.
«Ничто» переходит во «все». Условием этого перехода у Державина выступает осознание единства божественной и человеческой природы.
У Пушкина эта философская проблема получает иное решение. В поисках надежного и устойчивого бытия сознание склонно обращаться к трансценденции – коль скоро в этом мире оно не находит такого бытия. Так сознание бежит от этого мира в сферу потустороннего, и Пушкин сначала испытывает именно этот путь:
Конечно, дух бессмертен мой,
Но, улетев в миры иные,
Ужели с ризой гробовой
Все чувства брошу я земные
И чужд мне будет мир земной?
Ужели там, где всё блистает
Нетленной славой и красой,
Где чистый пламень пожирает
Несовершенство бытия,
Минутной жизни впечатлений
Не сохранит душа моя,
Не буду ведать сожалений,
Тоску любви забуду я?..
«Конечно, дух бессмертен мой». Под духом здесь понимается то же самое, что и сознание, душа (третий стих строфы снизу), Я (последний стих). От потока становления герой обращается к Я как к самотождественной сущности, способной дать искомую опору. Эта сущность наделяется бессмертием, вечным существованием. Однако это вечность трансценденции, вечность, противостоящая конечному земному бытию. В этом плане особую значимость приобретает вводное слово «конечно» – такая конструкция придает утверждению явно ощутимый оттенок сомнения, неуверенности. Сильнее и утвердительнее звучало бы: «Дух бессмертен мой». Испытав ужас небытия, герой пытается найти убежище в вере в трансценденцию. Но, в отличие от героя державинской оды, он скорее хочет верить, чем верит на самом деле. Любовь к земному существованию не позволяет ему принять окончательное решение в пользу потустороннего мира: «Ужели с ризой гробовой все чувства брошу я земные?».
Так в тексте появляется вторая конструктивная оппозиция: «иные миры» и «мир земной». В ином мире «все блистает нетленной славой и красой» и «чистый пламень пожирает несовершенство бытия». Но именно это требование отвратиться от всего становящегося и конечного земного мира герой Пушкина не может до конца исполнить: «минутной жизни впечатленья» он не согласен обменять на «нетленную славу и красу» потустороннего мира. Даже от сожаления и тоски он не хочет отказаться ради блеска потустороннего мира: «Не буду ведать сожалений, тоску любви забуду я?». Пушкин готов сказать «Да» этой жизни даже в ее негативных проявлениях: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». Но ту же мысль позднее выскажет Ницше устами Заратустры: «Боль еще и радость, проклятие еще и благословение, ночь еще и солнце, – уходите или вы узнаете: мудрец еще и безумец. Говорили ли вы Да какой-нибудь радости? О друзья мои, тогда вы говорили Да и всякой скорби. Все сцеплено, нанизано, все влюблено одно в другое».[72 - Ницше Ф. Полное собрание сочинений: В 13 томах. Т. 4: Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого / Ф. Ницше. – М.: Культурная революция, 2007. – С. 326.] Это – формула вечного возвращения, которую признает как Пушкин, так и Ницше.
В «Тавриде» эта мысль высказывается не сразу, автор движется к ней через блуждания и окольные пути. Пока лирический герой пытается найти определенный компромисс между «метафизической потребностью» и верностью земному существованию:
Любви! Но что же за могилой
Переживет еще меня?
Во мне бессмертна память милой,
Что без нее душа моя?
Бессмертием теперь наделяется не абстрактное Я, но память, сохраняющая впечатления той самой минутной жизни. Абстрактное Я без памяти – это то же самое Ничто, «пустой призрак», о котором говорилось в начале стихотворения. Такое бессмертие равнозначно небытию. Тем самым трансценденция ставится под вопрос, лишается своей полноты и самодостаточности: по крайней мере, трансценденции необходима соотнесенность с земным миром, иначе она – Ничто. Трансцендентное теперь ориентировано на имманентное, земное:
Зачем не верить вам, поэты?
Да, тени тайною толпой
От берегов печальной Леты
Слетаются на брег земной.
Они уныло посещают
Места, где жизнь была милей,
И в сновиденьях утешают
Сердца покинутых друзей…
Они, бессмертие вкушая,
В Элизий поджидают их,
Как в праздник ждет семья родная
Замедливших гостей своих…
«Зачем не верить вам, поэты?». Эта конструкция (Зачем не… Да,…) достаточно убедительно демонстрирует, что поэтам, в сущности, можно и не верить, но при желании – почему бы и нет? Речь идет о вымыслах, которые мы можем принять, не забывая о том, что это – вымыслы. Пушкин обращается к сказаниям древних поэтов.
Например, у Гомера:
Ты не умрешь и не встретишь судьбы в многоконном Аргосе;
Ты за пределы земли, на поля Елисейские будешь
Послан богами – туда, где живет Радамант златовласый
(Где пробегают светло беспечальные дни человека,
Где ни метелей, ни ливней, ни хладов зимы не бывает;
Где сладкошумно летающий веет Зефир, Океаном
С легкой прохладой туда посылаемый людям блаженным),
Ибо супруг ты Елены и зять громовержца Зевеса.
(«Одиссея», V, 560–570. Перевод В. Жуковского)
Характерно, что Пушкин берет не христианские, но языческие представления о загробном мире. Здесь еще нет жесткого разграничения имманентного и трансцендентного, и поэтому:
…тени тайною толпой
От берегов печальной Леты
Слетаются на брег земной.
Они уныло посещают
Места, где жизнь была милей,
И в сновиденьях утешают
Сердца покинутых друзей…
Тем не менее, все это – «мечты поэзии прелестной»:
Мечты поэзии прелестной,
Благословенные мечты!
Люблю ваш сумрак неизвестный
И ваши тайные цветы.
В этих стихах древняя поэзия одновременно прославляется («Благословенные мечты!») и подвергается снижению: герой искал оплота и бессмертия, а нашел «сумрак неизвестный».
Со следующих стихов начинается кульминационный поворот, который приведет от этого неизвестного сумрака к ясному полдню, к вечному возвращению:
Так, если удаляться можно
Оттоль, где вечный свет горит,
Где счастье вечно, непреложно,
Мой дух к Юрзуфу прилетит.
Счастливый край, где блещут воды,
Лаская пышные брега,
И светлой роскошью природы
Озарены холмы, луга,
Где скал нахмуренные своды
………………………………………….
От сумеречных фантазий о берегах Леты и Елисейских полях, от вечного света и непреложного счастья потустороннего поэт обращается к другим берегам и лугам, которые он некогда посещал в этой жизни. Поэтическим топонимам (Лета, Элизий) теперь противопоставляется Юрзуф с его пышными берегами (вместо берегов печальной Леты), холмами, лугами и проч. Сумраку неизвестному противополагается светлая роскошь природы. Пока это только мечты и воспоминания, но они уже получили совершенно иную направленность: от трансцендентного и мифопоэтического к земному, к тем «минутным жизни впечатлениям», с которыми поэт не согласился расстаться в обмен на нетленную славу и красу потустороннего.
Впечатления о пребывании в Юрзуфе отражены в поэтических текстах Пушкина (стихотворения, «Бахчисарайский фонтан» и «Евгений Онегин»), а также в письмах. Завершающая эту часть стихотворения разрядка отсылает ко всему корпусу этих текстов, так что пропуск в потенции оказывается максимальным заполнением. Приведем фрагмент из письма 1824 года: «Из Феодосии до самого Юрзуфа ехал я морем. Всю ночь не спал. Луны не было, звезды блистали; передо мною, в тумане, тянулись полуденные горы…. «Вот Чатырдаг», сказал мне капитан. Я не различил его, да и не любопытствовал. Перед светом я заснул. Между тем корабль остановился в виду Юрзуфа. Проснувшись, увидел я картину пленительную: разноцветные горы сияли; плоские кровли хижин татарских издали казались ульями, прилепленными к горам; тополи, как зеленые колонны, стройно возвышались между ими; справа огромный Аю-Даг…. и кругом это синее, чистое небо и светлое море, и блеск и воздух полуденный…..».[73 - Переписка А. С. Пушкина. В двух томах: Т. 1. – М.: Художественная литература, 1982. – С. 638.]