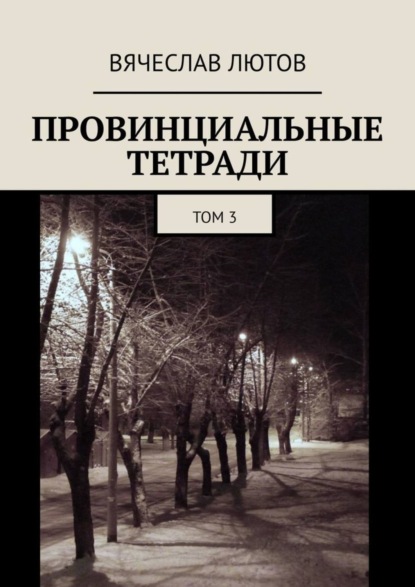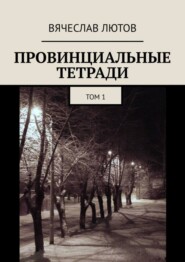По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Провинциальные тетради. Том 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Очень жаль современную государственную систему образования. Перенести бы Сковороду из прошлого в наше настоящее, так он, пожалуй, ездил бы на автобусе в райцентр учиться (и то с неохотой), поскольку подобное количество дворов смотрело бы на одну-одинешенькую и то невероятно запущенную школу с нищими и озлобленными учителями, месяцами не видевшими зарплату. Сковороде просто повезло, что он родился в просветительском водовороте. К слову, все школы на Гетманщине – явление исключительно народное; никаких правительственных программ там попросту не было; никаких бюджетов (хотя, правды ради, заметим, что была строчка на школы в казацком коште), субсидий, инвестиций, государственных траншей и государственной политики.
Однако, так ли это важно для понимания философии Сковороды? Важно, и даже очень. Подобное школьное изобилие – не чета нынешнему – ярко свидетельствовало о знании как потребности. Народ не толкали к учению и знаниям – он сам толкался за ними, как на рынке за маслом или мясом. Сама среда поэтому становилась теми дрожжами, на которых замешивалось оригинальное философское тесто. «Оригинальность», конечно, относительная – шло тотальное примеривание западной философской шапки на украинские чубы. Пусть самобытных идей пока не было, но самобытный поиск их был представлен весьма широко. Именно об этом я и хотел сказать, выделив банальное сочетание «страсть к знаниям». И именно ее и следует назвать одним из главных впечатлений детства Сковороды.
Другим впечатлением, также из этой страсти произросшим, стали учителя маленького Григория, который уже к шести годам выучился бегло читать. Имена их неизвестны – и это, кстати, еще одна из черт той эпохи: неперсонифицированностьобразования, странная, но позитивная безличность, некий неповторимый фольклорный образ – образ странствующего жака-школяра, недоучившегося спудея, пробирающегося домой на летние вакации, нищего, полуголодного, но весьма романтичного, к месту и не к месту толкующего, к примеру, Горация какому-нибудь казацкому дитяти за кров и харчи. Таким этот образ и отложился в памяти Сковороды.
Тогдашние спудеи, в основном, питомцы Киевской академии, исходили гетманские и запорожские земли вдоль и поперек и были таким же обычным явлением, как ныне появление в телевизоре какого-нибудь очередного кандидата в депутаты. Более того, Д. Яворницкий в своей «Истории запорожских казаков», развенчивая миф о казаках как о гуляках, пьяницах и грубых невеждах, склонен считать, что «ученые и недоученые спудеи» вкупе с польскими и украинскими панами и великорусскими дворянами стали особым культурным прецедентом. Они даже отличались своим языковым строем: запорожцев, к примеру, узнавали по частым ссылкам на Священное писание, любви к иностранным словам и витиеватым выражениям типа «душепагубного езера греховного». Подобные школярские тайны в виде «недишкреции, респонса, сатисфакции и перспективы» наверняка попадали на слух еще только постигавшему премудрости азбуки Сковороде.
Так что еще раз отметим: народная страсть к знаниям и пленительный для детского воображения странствующий студент и стали тем живым «ненаписанным» букварем, по которому училась когда-то читать русская философия.
Впрочем, подошло время и самому Сковороде стать «спудеем» – в 1734 году (по другой версии – в 1738 году), двенадцати лет от роду, как, кстати, и сыновья гоголевского Тараса Бульбы, он отправился в Киевскую академию.
Киевская академия
Прекрасен был град Киев, и холмы Киевские, благословленные когда-то святым апостолом Андреем, крещенные святым Владимиром и возвеличенные в монашеской аскезе великим Феодосием Печерским. Богат был Киев – слишком много торговых путей сходились в его лавках на Крещатике и Липках. Разношерстен был Киев – кто только не запутался в Подоле его великолепного платья: и казаки, и шляхтичи, и немцы, и русские, и евреи, и еще прочих национальностей десятки. Вот здесь, в этой пестроте и многоцветье Подола, плодила талантливых школяров Киевская академия, ставшая, по словам исследователя, основой складывающейся в России разночинной интеллигенции и приютившая в своих стенах как выходцев из духовного сословия, так и из обычных казацкого и чиновного.
Лик ее основателя – сына молдавского воеводы Петра Могилы – уже довольно потускнел за столетие, так что двенадцатилетнему Григорию Сковороде остались в наследство лишь легенды о загадочном киевском митрополите. Никто не знал, где Могила учился – кто-то называл Замойскую академию, пропитавшую его «польским духом», а кто-то даже отправлял его в диковинную Голландию. Рассказывали о том, что Петр Могила, тогда еще молодой Печерский архимандрит, собирался открыть латино-польскую школу, и не где-нибудь, а в лавре, чем ужасно растревожил весь Киев – как пишет летописец, «от некоторых попов и казаков великое было негодование… и хотели самого Петра Могилу и учителей его до смерти побити, едва их уговорили».
Из этого «спора» Могила вышел победителем и даже «переселил» свою школу в православный Братский монастырь. Говорили, что «зело умен был» и покровителей имел весьма надежных («родовые связи», как называет это Г. Флоровский; кстати, после смерти отца Могилы, опекунами Петра были канцлер Жолкевский и гетман Ходкевич). Школу же выстроил по иезуитским образцам, почти целиком переняв план общего образования. Учебники и книги также были «еще те» – начиная латинистом Альваром и кончая Аристотелем и Аквинатом. Преподавание велось строго на латыни. Жесткий распорядок школьной жизни соответствовал иностранным (европейским) коллегиям и академиям.
Сковорода подобную «иезуитчину», естественно, застал. В академии существовало четыре только языковых латинских и греческих классов: фара, инфима, грамматика, синтаксима. Завершали обучение в классах философии и богословия с тем стандартным набором философских и схоластических сочинений, который так не устраивал, к примеру, того же Ломоносова. Вкусил Сковорода и строгость коллегии – в академии розгами и плетьми насаждался почти монашеский режим, а иезуитские требования к качеству учебы были настолько высоки, что в списках студентов частенько появлялось примечание: «по вакациях не явился».
Впрочем, возвращаясь ко времени Петра Могилы, заметим, что обвинения в латинизме, папстве, униатстве, католицизме были столь часты и однообразны, что в конце концов Могила перестал обращать на них внимания. Главным его трудом – странное дело! – стала книга «Православное исповедание», в которой он бичевал протестантов, заполонивших Европу и теперь пробирающихся в казацкие пределы, и отвергал многие папские догматы. Мудрые люди так и не смогли понять, чего же в нем оказалось больше: латинского православия или русского католичества. Не мог этого уразуметь и Сковорода, попавший, даже по прошествии века с означенных событий, в жаркие богословские споры и диспуты. Не уразумел не потому, что был «слаб рассудком», а потому, что сама суть спора – как это ни покажется парадоксальным – была ему совершенно неинтересна. Этому есть целый ряд объяснений, но пока подчеркнем лишь суть выделенного сковородинского парадокса.
И еще. Прот. Г. Флоровского в «Путях русского богословия» писал:
«Могила и его сподвижники были откровенными и решительными западниками. Они стремились объединить русских и нерусских за единой культурной работой, в единой психологии и культуре. И та глухая, но очень напряженная борьба, которую мы все время наблюдаем вокруг всех начинаний и предприятий Могилы, означает именно эту встречу и столкновение двух религиозно-психологических и религиозно-культурных установок или ориентаций – западнической и эллино-славянской».
Стоит ли дополнительно пояснять, что Малороссия как раз и стала той пробиркой, в которой эти реактивы смешались без каких бы то ни было прогнозов на исход опыта? Что же касается Сковороды, видевшего эту встречу воочию и ежечасно, то и он не избежал ее. Вот только сама встреча оказалась в философии Сковороды совершенно иной, нежели ее схематично рисуют университетские учебники.
Впрочем, пока самому Григорию не до этого. Вернее, это пока является тем внешним обстоятельством, с которым приходится считаться, но осознавать – нет ни желания, ни мотивов.
Пока Григорий обильно «заправляется Альвара» – штудирует латынь по знаменитой латинской грамматике Эммануила Альвара, изучает язык под чутким руководством таких корифеев академии, как Г. Конисского и Р. Заборовского. Вообще, киевские «спудеи» весьма ценились именно как переводчики. Это и понятно, если вспомнить, как их «натаскивали». Помимо ежедневных упражнений, чтений и переводов, ученикам вменялось говорить на латыни не только в академии, но и дома. Провинившимся или неучам вешали на шею большой деревянный футляр с длинным листом бумаги и не разрешали снимать даже на ночь (Ю. Барабаш. «Знаю человека». Григорий Сковорода: Поэзия. Философия. Жизнь. М., 1989. – из редких русских источников о Сковороде эта книга является наиболее ценной).
Юный Сковорода эту деревянную метку не носил. И дело здесь меньше всего в прилежании или усидчивости. В нем жила страсть к языку, в нем обитал филолог, столь трепетный в то время и столь редкий в наше. Когда исследователь, к примеру, говорит, что та же латынь стала «органической частью не только его творчества, но и всего мироощущения», он не далек от истины – так и было.
Однако, одних стихотворений Сковороды, написанных на латыни, его переводов, его многолетней «латинской» переписки с Ковалинским, неугасаемой любви к Горацию, мотивы которого слышны в доброй трети «Сада божественных песен» – всего этого вдруг оказывается недостаточно для того, чтобы понять роль языковой органики в его судьбе и философии. Не хватает «мелочей», которые подчас совсем не имеют лингвистической природы.
Для заметок вполне уместно лишь бегло очертить языковой портрет Сковороды.
«Он говорил весьма исправно, – вспоминал Ковалинский, – с особливой чистотою латинским, немецким языком и довольно разумел эллинский». В последнем ему помог учитель С. Тодорский, он же пристрастил Сковороду и к древнееврейскому. Кстати, еще один мемуарист, Г. Гесс де Кальве, говорит, что у Сковороды была «еврейская Библия», с которой он никогда не расставался. Даже свое имя подписывал на древнееврейский манер: Григорий Варсава, буквально: сын Саввы. В повседневной жизни «известный странник Сковорода», как вспоминали позднее, «был по наречию сущий малороссиянин». Тот же Ковалинский отмечал, что Сковорода «любил всегда природный язык свой (украинский) и редко принуждал себя изъясняться на иностранном». Такие филологические знания, по мысли В. Эрна, конечно, были исключительны для простого бурсака.
Между тем, знание языков отнюдь не стало для Сковороды самоцелью, сверх-целью. В этом смысле, он вовсе не трепетал и не благоговел перед грамматикой, и не проводил того причудливого лингвистического анатомирования, к какому склонно «кабинетное мышление». Иными словами, он не делал из языка науку (хотя и пытался сложить свою поэтику). Но языком как совершенным инструментарием был, несомненно, горд. К слову, знание языков для него очень прочно соседствует с такими понятиями, как польза и добродетель. Первое оборачивается для грамотного человека надежным жизнеустройством, второе дает благодатную пищу для души – не книжную премудрость, а именно книжную усладу. Отчасти, можно сказать и так: Сковорода учил языки только затем, чтобы читать Горация или Плутарха, – и все. Что же касается полиглотства как такового – то это обычное следствие «ученого базара», где так безнадежно переплелись между собой эпохи, религии и авторы.
Кстати, об авторах.
Сам Сковорода не раз позднее приводил в пример латинскую поговорку: non multa sed multum – не многое, но много. Знание складывается вовсе не из количества прочитанных книг, а из значимости прочитанного. В этом смысле энциклопедических познаний у Сковороды не было (и вряд ли он стал бы играть с нами в «Что? Где? Когда?»). Но в том, к чему у него лежала душа, он был поистине обширен, хотя в своих сочинениях практически не показывает свою начитанность в виде разнообразных ссылок, цитат, сравнительного анализа и прочего, чем так любит заниматься исследователь.
Эрн справедливо говорит, что Сковороду отличает редкое благородство вкуса – по поводу списка книжных имен, который, несомненно, стоит того, чтобы его привести хотя бы частично (и если мы поймаем себя на мысли о «засилии» имен – то это лишь весьма печальная психологическая реакция нашей «образованнейшей» эпохи).
Прежде всего, в основе библиотеки Сковороды лежит нравственная теология (theologia ethica) – Платон, Исократ, Демосфен; он читает также Эпикура, Аристотеля, Филона, Марка Аврелия, Лукиана, Плутарха. Другой ряд – римский: неизменный Гораций, Вергилий, Цицерон, Сенека, Лукреций, Теренций. К античной литературе у него непосредственно примыкает и патристика: Климент Александрийский, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Исидор, Василий Великий; и вместе с ними «подозрительные для православия» и не включенные в программу Ориген, Дионисий Ареопагит, Максим Исповедник.
Главою же и сердцем всему – Библия.
Кстати, точно такой же спонтанный и неразборчивый список святоотеческих писаний был и у Гоголя в пору его напряженного религиозного «самостроительства». Впрочем, Гоголь тогда явил собой одну из характерных черт богоискателей – «вера наша и католическая суть одно и то же, ибо в единого бога веруем». Если неразличение православных и католических источников часто ставилось Гоголю в вину, что же говорить об «эпохе Сковороды», представляющей сплошное «месиво» различных источников!
Мы возвращаемся к тому же, с чего и начали – к многоголосице и неразберихе могилянской эпохи. Ее нужно было пережить. Ее нужно было узнать – что, собственно, и требовала академическая традиция. Но, главное, через нее нужно было прорасти, не стать академическим асфальтом и не сражаться с ним с отбойным молотком. И здесь хотелось бы привести очень точное объяснение В. Эрна: «Для того, чтобы в этих условиях возлюбить философию и стать ее верным рыцарем, нужно было обладать глубоко самобытной натурой, изнутри проникнутой философским Эросом. Если Сковорода, сын простого казака, становится одним из любопытнейших европейских философов ХУШ века, то этим он обязан не школам, в которых учился, не среде, в которой вращался… а единственно себе, силе своего устремления к философскому самопознанию».
Отчасти можно сказать, что Сковорода начал учиться как раз тогда, когда пору ученичества можно было считать завершенной, как это и делали многие его однокашники по Киевской академии – окончив курс, выходили, поднимались по служебной лестнице к чинам и наградам. У Сковороды все иначе. Даже свои поздние письма он частенько подписывал «студент Григорий Сковорода». Он любил себя именно как semper tiro – вечного ученика. Кстати, с Киевской академией он свяжет без малого два десятилетия «ученичества».
Его первый «перерыв» выпадет как раз на класс философии, предпоследний в программе. Повод же для перерыва был весьма ничтожен и отнюдь не философичен – так, курьез судьбы…
Монарший клирос
1741 год выдался для России весьма неудачным (что, кстати, для России отнюдь не ново). После смерти царицы Анны Иоановны, и без того наградившей Россию мрачной бироновщиной, дела пошли еще хуже. Назначенный ею преемник-царевич, младенец Иоанн Антонович, еще в колыбельке головку не держал; как в калейдоскопе, регенты менялись друг за другом: Бирон, Миних, племянница бывшей царицы Анна Леопольдовна… Во всем – сплошной упадок и расстройство, неразбериха и растраченная казна. К тому же шведы объявили войну. Одним словом, полоса…
Наконец, в ноябре 1741 года императрицею стала дочь Петра Великого Елизавета. Основной пафос, с которым историки пишут о временах ее правления, – «восстановилась связь времен», возвращалось все то, что когда-то было заложено ее отцом. Нам же лучше остановиться на другом.
В характере Елизаветы Петровны мемуаристы и историки чаще всего отмечали особую двойственность, говорили, что «Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий благочестивой отечественной старины». А поэтому в ней так легко переплетались версальские банкеты и русская кухня, менуэт и плясовая.
В «личной жизни» Елизаветы также оказалось множество несоответствий «штандарту». В. О. Ключевский так говорит о ней в своих лекциях: «Невеста всевозможных женихов на свете… она отдала свое сердце придворному певчему из черниговских казаков, и дворец превратился в музыкальный дом: выписывали и малороссийских певчих, и итальянских певцов… те и другие совместно пели и обедни и оперы».
«Черниговский казак», пастушок – Алексей Разумовский, будущий граф и морганатический супруг царицы.
А среди «выписанных для двора малороссийских певчих» оказался в тот год и наш герой – Григорий Сковорода…
М. Ковалинский в своей биографии не слишком распространяется об этом «незначительном» событии, словно для лубенских казачков отправиться в путешествие в Москву и Петербург ничуть не удивительнее Сорочинской ярмарки. Я уже не говорю, что быть подле императрицы, пусть и в виде коврика под ногами – голубая мечта любого дворянского недоросля. Не распространяется биограф, скорее всего, по-философски – внешние обстоятельства: вся эта мишура и букли – его учителем никогда не ценились. Стоит ли тогда «акцентировать внимание» на подобных мелочах?
Рассказывает же весьма бесхитростно: «Тогда царствовала императрица Елизавета, любительница музыки и Малороссии. Способности Сковороды к музыке и отменно приятный голос его стали причиной выбора его ко двору в певческую капеллу, куда он и был послан при вступлении на престол императрицы».
Так «незатейливо» начинались его странствия – мандры (от немецкого «wandern» – путешествовать, бродить). В начале декабря 1741 года Сковорода вместе с другими голосистыми малороссами прибыл в Петербург, новую столицу государства Российского.
Петербург, еще только, по сути, расчерченный, но уже проткнувший серое северное небо Петропавловской иглой, уже смотревший на Неву окнами Двенадцати Коллегий и хранивший в новой Кунсткамере коллекцию Петра, был великолепен. В нем, конечно, еще много было свободы и необузданности, соленого ветра и дикого нрава; но его «портные» – от Леблона и Земцова до Кваренги и Растрелли – уже вовсю кроили прочную ледяную ткань на парадный вицмундир, застегнутый на все пуговицы и крючки и сверкавший эполетами и геройскими звездами и крестами.
Будет – как же без этого – своя «казенная форма» и у елизаветинских певчих – малиновые мундиры с шелковыми пуговицами…
Можно сказать (так по меньшей мере следует из жизнеописания), что Петербург не произвел на Сковороду должного впечатления – не пленил, не закрутил как иных провинциальных дитятей в водовороте входивших тогда в моду балов и маскарадов, не ослепил праздничными фейерверками, не опьянил роскошью (конечно, певчие из «подлого сословия» на золоченый экипаж рассчитывать не могли, но получали от 100 до 200 рублей в год – деньги по тем временам вполне мещанско-приличные). Петербург словно исчез, никак не отозвался. Его жизнь шла отдельно, Сковороды – отдельно. Сошедшись на перекрестке – не пересеклись…
Именно это «биографическое ощущение» и является главной ошибкой исследователя. Я склонен думать – несмотря на практически полное отсутствие «личных фактов» пребывания Сковороды в столице, – что как раз Петербург стал настоящим испытанием для неокрепшей души недоучившегося спудея. Он его ошарашил, оглушил, отвратил от мира. Впрочем, жестокое житие Петербурга низвергало и щелкало по носу многих. Позднее забивало человека в подполье, заставляло в полной мере испытать приступы зависти и осознавать свое ничтожество, награждало кислым виноградом любви (не потому ли в жизни Сковороды никогда не будет женщины?), развращало, подличало. Словом, имело все те «прелести», которые принято называть «светом».
Много позднее в своем «Благодарном Еродии» (пожалуй, самом ярком и очень мною любимом диалоге) Сковорода вынесет «тщетному миру» совершенно жестокий приговор: «Мир есть пир беснующихся, торжище шатающихся, море волнующихся, ад мучающихся… Мир есть море потопляющихся, страна моровою язвою прокаженных, ограда лютых львов, острог плененных, торжище блудников, удка сластолюбная, печь, распаляющая похоти, лик и хоровод пьяно-сумасбродных, и не отрезвлятся, пока не устанут, слепцы за слепцами в бездну грядущие…»
Для того, чтобы это увидеть и ощутить, должности придворного певчего было вполне достаточно…
Капелла размещалась тогда в старом Зимнем дворце. Пусть и имевшая среди прочей дворни привилегированное положение, она жила своим весьма замкнутым и «подневольным» миром – бесконечные репетиции, церковные службы, концерты (в том числе и лично для императрицы чуть ли не в ее покоях), обязательные придворные торжества и банкеты «в царских палатах» (как в том знаменитом гайдаевском фильме). «Высшая публика» частенько подпияхом – в старом спектакле о том, как смазывается служебная лестница и чем намыливается шея. Но развлекается – по статусу…
Должности придворного певчего было вполне достаточно, чтобы «оценить», как методично, шаг за шагом, а то и вовсе нахрапом, власть меняет человека – как вкусившие плод гордыни мира неизбежно становятся пупом ада. Кстати, молодому Сковороде далеко не нужно было ходить – стоило лишь взглянуть на одного из своих земляков (не то дядьку по материнской линии, не то двоюродного брата), дослужившегося до камер-фурьера, забравшегося в белые чулки и расшитый золотом кафтан и невидящего ничего, что ниже по чину или «подлее по происхождению».
И еще об одном «петербургском аспекте». Так уж вышло, что именно возможность карьеры – главное завоевание и гордость Петербурга – оказалась для Сковороды лишь незначительным пустяком, безобразной безделицей, в которой нет ничего, кроме «лазания по головам». Между тем, как уже говорилось, у киевских воспитанников, особенно во времена Елизаветы, были весьма заманчивые перспективы и почти все шансы устроиться в государственной иерархии.