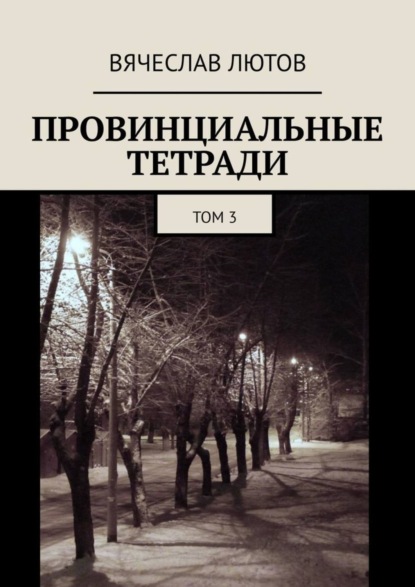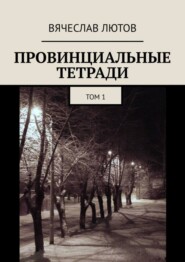По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Провинциальные тетради. Том 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На этом торжище придется подвизаться и Сковороде. Хотелось бы сказать, что не по своей воле, да он сам соглашался, «принимал предложение», которое каждый раз оканчивалось неудачей, изгнанием, бегством. Слишком тесны оказывались «ученые лавки» для его знаний и образа мыслей, слишком тесны были отведенные квадратные метры для его просторов, слишком чуждыми оказывались приказчики, распорядители и церемонемейстеры.
Первый учительский опыт Сковороды был в Переяславле, куда тамошний епископ пригласил его преподавать поэзию. Сковорода предпринял для такого случая целый проект – написал рассуждение о поэзии и руководство к искусству поэтики. «Оно показалось епископу удивительным и несообразным прежнему старинному обычаю, – рассказывает Ковалинский. – Епископ приказал переменить и преподавать по тогдашнему образу учения…»
Сковорода приказ не выполнил – не мог выполнить. Но вскоре за ослушание ему пришлось отвечать – «на суд через консисторию». Отвечал с тем же чувством, что и Пушкин: «не мечите бисер перед свиньями». Разве что «скромнее», тактичнее. Он пояснял суду, что его поэтика основана «на самой природе этого искусства», доказывал. Под конец не сдержался и добавил: Alia res sceptrum, alia plectrum – одно дело пастырский жезл, другое пастушья свирель.
– Пусть не живет в моем доме тот, кто творит гордыню, – сделал резолюцию епископ, и Сковорода был изгнан из Переяславльского училища…
В 1759 году, когда пришла пора молодому Василию Томаре закончить домашнее образование и «поступить в другой круг упражнений, пристойных по свету и роду», пришла пора уходить и Сковороде. Через игумена Гервасия Якубовича, с которым Григорий Варсава был дружен, пришло предложение от нового епископа Иоасафа Миткевича, проректора Харьковского коллегиума.
Именно с этим училищем, пусть и с перерывами, будет связано почти целое десятилетие жизни философа.
Поначалу все складывалось совсем неплохо, как, впрочем, и всегда бывает поначалу. В новом курсе пиитики Сковорода сохранил почти все идеи своих прежних размышлений. Все бы ничего, если бы не одно предложение Иоасафа Миткевича, не имевшее к поэзии никакого отношения, сделанное так некстати и не тому. Но прежде, чем мы его озвучим, сделаем одну очень важную оговорку.
Философия Сковороды, вся пронизанная светом Библии, светом эллинской мудрости и наполненная религиозной этикой и самопознанием, – это меньше всего богословие, тем более в его ортодоксальном варианте. Это парадокс, и парадокс очень глубокий. Прот. Г. Флоровский, включая Сковороду в «Пути русского богословия», одновременно и исключает его из богословского пантеона – он относит воззрения философа к мистическому типу «набожно-пиетических настроений» и тем самым приближает Сковороду к масонским кругам.
Конечно, ни к каким масонам Сковорода не относился и ни в каких ложах не пребывал. Суть в другом. Библейский пафос Сковороды смутил многих – искушенные в логике, они потребовали богословия, но не получили его. Они потребовали церковного канона – но именно из этого канона Григорий Варсава и вываливался, как мелкая монета из худого кошелька.
Камнем преткновения в отношениях с белгородским епископом стало «отсутствие в Сковороде церковной традиции». Мы помним, что еще в годы своего ученичества философ оказался в стороне от жарких богословских диспутов. Не это его обжигало, не в этом он искал своего спасения, не стал бы его философский ум «разбираться» с обидчиками на большой дороге. Сковорода живет Христом, как китаец живет Буддой. Он ждет сопряжения, единения – и с божественным светом, и с мучением на кресте; он ищет Его внутри, там, где «душа рыдает»; он готов раздирать колючие проходы к светлым источникам – но только вместе с Тем, для Кого все возможно.
В этом сопряжении посредник не нужен; для Сковороды – невозможен, как невозможен посредник в глубокой и искренней любви, как невозможна сваха для страстного чувства, для «пожара сердца».
«Любовь есть вечный союз между богом и человеком, – поясняет Сковорода в 1766 году. – Сия божественная любовь имеет на себе внешние виды, или значки; они-то называются церемония, обряд, или обряд благочестия. Церемония возле благочестия есть то, что возле плодов лист, что на зернах шелуха, что при доброжелательстве комплименты. Если же сия маска лишена своей силы, в то время остается одна лицемерная обманчивость, а человек – гробом раскрашенным…»
И в этот самый момент Миткевич предлагает Сковороде принять монашеский сан!
На что рассчитывал Гервасий Якубович, пришедший по поручению епископа уговаривать философа принять сан и пойти по лестнице духовенства для «блага, пользы, славы и изобилия»? Чем думал пленить его? Каким средством хотел направить бурный, набирающий силы и произрастающий из каждой новой капли поток в ортодоксальное русло?
«Сковорода, выслушав это, сильно вознегодовал и сказал Гервасию:
– Разве вы хотите, чтобы я пополнил число фарисеев? Ешьте жирно, пейте сладко, одевайтесь мягко и монашествуйте! А Сковорода полагает монашество в жизни нестяжательской, малодовольстве, воздержанности, в лишении всего непотребного, чтобы обрести нужнейшее, в отвержении всех прихотей, чтобы сохранить самого себя в целости, в обуздании себялюбия, чтобы удобней выполнить заповедь любви к ближнему, в искании славы божьей, а не славы человеческой…»
Этот «инцидент» станет причиной первого ухода Сковороды из Харьковского коллегиума. Старый друг Гервасий, не глядя на Сковороду, благословит с досадой философа на дорогу…
Подобный случай «постричь Сковороду» будет не единственным.
В 1764 году Григорий Варсава вместе с Ковалинским приедет в Киев – на каникулы. На время Сковорода стал даже экскурсоводом для своего юного друга – «толковал историю места, древних нравов и обычаев». Пока не дошли до Печерской лавры. Многие знакомые, будучи тогда монахами, буквально напали на Сковороду, обступили его:
– Хватит бродить по свету! Пора пристать к гавани. Нам известны твои таланты, святая лавра примет тебя, как мать свое дитя, будешь ты столп церкви и украшение обители.
– Ах, преподобные! – возразил он с горячностью. – Я не хочу умножать собой столпотворение, довольно и вас, столпов неотесанных, в храмах божьих.
После этого приветствия старцы замолчали, а Сковорода, смотря на них, продолжал:
– Риза, риза! Сколь немногих сделала ты преподобными! Сколь многих очаровала и сделала окаянными. Мир ловит людей разными сетями, накрывая богатством, почестями, славой, друзьями, знакомствами, покровителями, выгодами, утехами и святыней, но всех несчастнее есть последняя. Блажен, кто святость сердца, то есть счастье свое, укрыл не в ризу, но в волю Господа!..
«Монахи-старцы, – пишет Ковалинский, – переменились в лице, слушая это; но колокол позвал их, и они поспешили на молитву…»
Поведение Сковороды – это меньше всего «богоборчество». Да и не могло прийти на ум верному ревнителю Христа подобное отрицание. Другой разговор, что мы видим в его поступках некое «культоборчество», противодействие той внешней стороне христианства, которая не могла «прельстить» и никогда не прельщала своей формой, своей семиотикой ищущего «простую глубину» Сковороду. В конце концов, было бы ошибкой говорить даже о «легкой антицерковности» Сковороды – ибо не церковь порочна, а люди в церкви. Григорий Варсава, может быть, и хотел бы их исправить, но…
Впрочем, Сковорода оказался не одинок в своих воззрениях, и это подробно отмечает Ковалинский. На следующий день после «печерского случая» к философу подошел один из монахов, отец Каллистрат, обнял его и сказал:
– О мудрый муж! Я и сам так мыслю, как ты вчера говорил перед нашей братией, но не смел никогда следовать мыслям миом. Я чувствую, что я не рожден к этому черному наряду и введен в него одним видом благочестия, и мучу свою жизнь. Могу ли я?..
Сковорода отвечал:
– От человека не возможно, от Бога же все возможно…
Сны сквозь замочную скважину
«Глупый ищет места, а разумного и в углу видно…»
Как-то королевский Изумруд упрекнул своего собрата Алмаза: что же не думаешь ты о чести и погребенным в пепле живешь, к чему твое сияние, если оно не приносит удивления взору? Алмаз отвечал: «Наше с видного места сияние питает мирскую пустославу. А мы лишь слабый небес список. Цена наша, или честь, всегда при нас и внутри нас».
Изумрудная дымка сна развеется, но подслушанный «разговор» останется. И в справедливости этого разговора Сковороде придется очень скоро убедиться.
Последний харьковский «богословский шум» вокруг Сковороды поднимется в конце 1766 года. К тому времени уже сменится несколько епископов, харьковский коллегиум переживет «кадровую бурю». И не попадаться бы в этот водоворот личных амбиций и притязаний, но все сложится иначе. Григория Варсаву все же уговорят вернуться, не без помощи генерал-губернатора Щербинина, – и он кроме поэтики будет читать курс катехизиса в Дополнительных классах.
Поводом для «теологических распрей» послужит небольшая работа Сковороды, которая впоследствии будет открывать его сочинения; даже не работа, а нечто вроде конспекта лекций – «Начальная дверь к христианскому добронравию», написанная для молодого шляхетства Харьковской губернии.
Ее идея проста. Сковорода толкует десять христианских заповедей. Вот только делает это не в традициях ортодоксального богословия, а по-философски, «по мысленному произрастанию». «Начальная дверь», по сути, и станет тем алмазом в пепле – именно здесь Сковорода выскажет свои любимые мысли, так долго носимые им в душе и не находившие выражения. Здесь будет выточен ключ к пониманию Сковороды, к главным основам его философского мировоззрения. Мы лишь подержим этот ключ в руках, а дальше пусть каждый сам свою дверь открывает…
«Благодарение блаженному Богу о том, что нужное сделал не трудным, а трудное – ненужным. Нет слаще для человека и нет нужнее, чем счастье; нет же ничего и легче этого. Царствие божье есть внутри нас. Счастье – в сердце, сердце – в любви, а любовь же – в законе вечном…»
«Что же есть одно единое? Бог. Вся тварь есть рухлядь, смесь, сволочь, сечь, лом, крушь, стечь, вздор, и плоть, и плетки… А то, что любезное и потребное, есть едино везде и всегда. Но едино все горстью своею и прах плоти твоей содержит… Бог и счастье – недалеко они. Близко есть. В сердце и в душе твоей…»
«Весь мир состоит из двух натур: одна – видимая, другая – невидимая. Видимая натура называется тварь, а невидимая – Бог…»
«Важнейшее дело божье есть: одну беспутную душу оживотворить духом своих заповедей, чем из небытия произвести новый земной шар, населенный беззаконниками…»
«Закон божий есть райское дерево, а предание – тень. Закон божий есть плод жизни, а предание – листвие…»
С этим и пойдет Григорий Сковорода в свое долгое странствие и ни одному из высказанных когда-то заветов не изменит. К слову, почти через 15 лет он вернется к «Начальной двери», перечитает заново и обновит ее, подобно как новой краской покрывают старые доски.
Но пока подобное «вольнодумие» не осталось незамеченным и вызвало неудовольствие нового епископа Самуила Миславского. Для Григория Варсавы, кстати, не такого уж и «нового» – бывший однокашник, как-никак. Миславский с достопамятных времен всегда уступал Сковороде и в знаниях, и в подвижности ума – «как ни старался». Теперь же повод вышел – и епископ счел подобные рассуждения о Боге и божественном в устах светского человека, не желавшего «стричься», за «похищение власти и преимуществ своих» и «разгневался на него гонением».
Была здесь и личная обида, и сам Сковорода дал епископу «бунтовской повод». Ведь говорил определенно: «Весь мир спит, да еще так спит, как сказано о праведнике: аще падет, не разобьется… Спит глубоко протянувшись. А наставники, пасущие Израиля, не только не пробуживают, но еще поглаживают…»
Сковорода, защищая свою книгу, дает хорошую отповедь: разве шляхетству, которое из детского недомыслия уже выросло и жаждет думать, «прилично иметь мысли о верховном существе, какие есть в монастырских уставах и школьных уроках»? Но Миславскому ничего не докажет – да и хотелось бы, как говориться, ноги ломать…
Впрочем, вся эта история замешана, по большому счету, не на «расхожем богословии», да и иные «диспуты» были куда горячее. Дело – в непохожести, в оригинальности, в «выпадении из всемства».
Стоит ли удивляться, что из Харьковского коллегиума Сковорода выпадет и подавно?..
Портрет со стороны
Каким видело Григория Сковороду молодое харьковское шляхетство? М. Ковалинский охотно и подробно рассказывает об образе жизни Сковороды в Харькове:
«Отличный образ его мысли, учения, жизни скоро обратили на него внимание тамошнего общества. Одевался он пристойно, но просто; имел еду, составленную из трав, плодов и молочных блюд, употреблял ее вечером, после захода солнца; мяса или рыбы он не ел не по суеверию, но по своей внутренней потребности; для сна он выделял времени не более четырех часов в сутки; вставал до зари и, когда позволяла погода, всегда ходил пешком за город прогуливаться на чистый воздух и в сады. Всегда весел, бодр, легок, подвижен, воздержан, целомудрен, всем доволен, благодушен, унижен перед всеми, словоохотлив, когда не принужден говорить, из всего выводящий нравоучение, почтителен ко всякому состоянию людей; посещал больных, утешал печальных, делил последнее с неимущими, выбирал и любил друзей по сердцу их, имел набожность без суеверия, ученость без кичливости, обхождение без лести…»