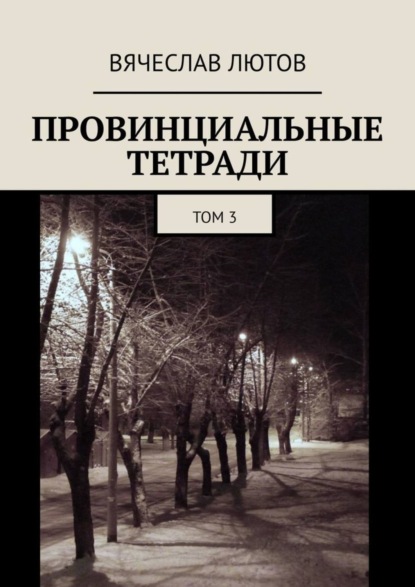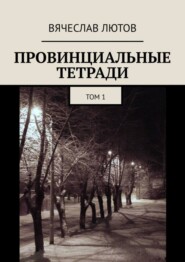По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Провинциальные тетради. Том 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Да, «философы, которые учили молодого человека, толковали ему, что к одному состоянию жизни больше привязано благословение Бога, к другому – меньше», – а Сковорода отвечал, что все состояния хороши, и Бог никого не обидел, а проклял же только «сынов противления, которые вступают в состояния по страстям».
Да, «всемудрые учили его, что Марк Аврелий, Тит, Сократ, Платон и другие славные в древности великими делами и сердцем люди должны были быть несчастливы, потому что не имели исторического знания про вещи которые случились после них» и не было им святого благовествования, – Сковорода же отвечал, что у всех тех мужей был высший дух, и заслуживают они уважения за последовательную любовь к истине; и поскольку Бог есть истина, то они были верные его слуги…
Стоит ли удивляться смятению в голове юного Ковалинского!
«Стараясь перевоспитать его и желая больше и больше дать ему образ истины, он /Сковорода/ писал к нему письма почти ежедневно, чтобы побудить его к ответу, хоть кратко, приучить его мыслить, рассуждать, изъясняться справедливо, точно и прилично». Ковалинский отвечал – Сковорода писал письма вновь и вновь, передавая их любимому другу через деревенского мальчишку Максимку.
С этих писем – а с 1762 по 1764 годы их сохранилось более семидесяти – было бы ошибкой требовать стройной системы воспитания. Да ее и не могло быть у Сковороды, который сам находился на полпути. В письмах к Ковалинскому все – штрихами, подчас бегло, по поводу, случайно; все в них – разрозненное мозаичное стекло; все – зерна, брошенные в пашню: даст бог, когда-нибудь прорастут…
Вся переписка – апология дружбы. Она – предмет лелеемый, нежный, чистый; она – пристрастие Сковороды.
«Я принадлежу к тем, кто настолько ценит друга, что ставит его выше всех иных друзей и признает лучшим украшением жизни… Если у меня есть друзья, я чувствую себя не просто счастливым, а счастливейшим. Что же удивительного в том, что для меня нет ничего сладостней, чем вести разговор с другом? Только б Бог укрепил меня в мой честности, только б он сделал меня достойным человеком, себе дружественным, ибо добрые люди – друзья божьи и только среди них сохраняется высший дар, что есть настоящая чистая дружба. Ко всему прочему мне нет никакого дела…»
Понимание дружбы у Сковороды эллинское, потому он так часто берет в свои «философские спутники» Плутарха, который благодарил бога за то, что тот, «примешав к жизни дружбу, сделал так, чтобы все было радостно и приятно». Радость дружбы даже внешне подчас оказывалась удивительной – однажды, выходя из храма и увидев Михаила, философ засмеялся и так, что Ковалинскому показалось, что он смеялся «сильней, чем было на самом деле». Юноша тогда просил объяснить причину смеха. «Ты спрашивал, а я не сказал тебе причины, да и теперь не скажу; скажу только то, что смеяться позволительно было тогда, позволительно и теперь: со смехом писал я это письмо…»
Скажет, объяснит, причем, попросит не смеяться тогда, когда он говорит о смехе:
«Смех есть родной брат радости настолько, что часто подменяет ее… Почему я был весел вчера? Слушай же: потому что я увидел твои радостные глаза, я, радостный, приветствовал радующего радостью… Ибо какой чурбан не посмотрит с радостью на счастливого человека и к тому же друга».
Радость дружбы произрастает из глубины и не требует для себя какого-либо антуража. Никакое расстояние и никакое пресыщение, по словам Сковороды, не уменьшает ее сладости – напротив, увеличивает ее. Такие размышления, как признавался философ, «не последнее место занимают среди тех, которыми я обычно пытаюсь украсить свою жизнь». В глубине дружбы – любовь, и Сковорода подчас отождествляет эти слова. Да и не отождествлять то, в основе чего лежит божественный свет, невозможно. Те, кто лишен любви, представляются Сковороде «лишенными солнца и даже мертвыми». Но и сама любовь должна быть истинной, прочной и вечной:
«Любовь никоим образом не может быть вечной и прочной, если рождается из тленных предметов, то есть из богатства и прочего. Прочная и вечная любовь возникает из родственной схожести вечных душ, которые укрепляются их добродетелью и не подвержены разрушению. Ибо, как гнилое дерево не склеивается с другим гнилым деревом, так и между негодными людьми не возникает дружбы. Поэтому если тебе моя любовь дорога, то не бойся, что она пройдет…»
Но дружба, как и жизнь, – бесконечная схватка, и врагов у нее предостаточно. И следует, по словам Сковороды, более всего заботиться о том, чтобы «не заключить волка вместо овцы, скорпиона вместо рака, змею вместо ящерицы», ибо нет ничего опаснее и ядовитее, чем притворный друг.
Разговор о льстецах – кровь от крови философия Сковороды, даже если он чаще всего приносит Ковалинскому в письмах «цветочки из Плутарха» на эту тему, и называет вслед за древним философом такие отличительные черты льстеца, как изменчивость и непостоянство. «Он подобно обезьяне подражает другим до тех пор, пока не получит того, чего домогался», и выявить его зачастую бывает сложно, так как льстецы, по словам Плутарха, бывают разные – открытые и скрытные. Поэтому Сковорода так подробно поясняет это своему другу:
«Один шатается у стола богатых, мелет вздор, шутит, льстит, смеется. А другой, прикрывшись маской серьезного мужа и мудреца, выдает себя за надежного мудрого советника… Первый стремится к тому, чтобы по-нищенски выпросить пищу и напитать чрево чужими обедами. Другой, как змея, вкрадывается в доверие, выведывает тайны, стремится к тому, чтобы причинить вред простому и неосмотрительному человеку и даже совсем его погубить. О, подлинно адская змея. Я сам испытал укусы шести или семи таких ядовитых гадюк…»
Он не рассказывает в письмах о том, как это было и кто эти люди. Он просто констатирует опыт, не называя, не раскрывая его.
Чтобы увидеть льстеца, необходимо особое зрение, чутье, осторожность. Но
Сатана увлекает в волны даже осторожных людей…
Вот и рассказывает, не рассказывая, о себе Сковорода молодому Ковалинскому:
«Сколько морального вреда принесли мне посланцы дьявола, обманув меня. Как хитро они вкрадываются в доверие, так что только через пять лет это почувствуешь. Ах! Воспользуйся хоть моим опытом! Я тот моряк, который, будучи выброшен на берег кораблекрушением, других своих братьев, готовящихся проделать тот же путь, робким голосом предупреждает, каких сирен, каких чудовищ им следует остерегаться и куда держать путь. Ибо другие потонули и отошли в вечность…»
Однажды Ковалинский попросил Григория Саввича дать ему совет «относительно планов жизни» и с какими людьми поддерживать отношения. Сковорода улыбнулся и ответил коротко – с хорошими. Но оговорился, что хороших людей, добрых сердцем и чистых душой, меньше, чем белых ворон, и потребуется много фонарей Диогена, чтобы найти такого человека среди лживых и пустых притворщиков, наполняющих наш мир.
«Поэтому правильней всего, я считаю, приобретать друзей мертвых, то есть священные книги…»
И письмо прерывается звоном колокола, который позвал философа в греческий класс…
Библия – сердце, античная философия – разум. Для Сковороды это – непререкаемое единство. И он с этим единством продирается сквозь восприятие древнегреческой культуры как культуры языческой, христианина не достойной. Его философское мировосприятие принимает античного философа как пророка истины, как толмача истины, как искателя истины – и последнее, пожалуй, самое ценное. Этика философского поиска не может жить пренебрежением, не может не требовать от Сковороды обязательства включить в свою орбиту и греческую пифагорейскую традицию, и платоников, и поздних римских стоиков. Она заставляет философа, выступившего учителем, требовать такого же священного трепета перед древней мыслью и от других.
«Имей ввиду, – предупреждает он Ковалинского, – что наиболее ясным доказательством твоей любви ко мне будет твоя любовь к греческим музам, и если тебе дорога наша любовь, то знай, что она будет продолжаться до тех пор, пока ты будешь чтить добродетель и эллинскую литературу…»
Это был почти ультиматум. Сковорода присылал своему другу фрагменты из сочинений Плутарха, Платона; в его письмах множество греческих слов, иногда с пояснениями; он предлагал другу свою помощь и предупреждал, что изучать античную литературу нужно медленно – «медленная непрерывность накопляет большую массу, чем можно предположить».
Чуть позднее Сковорода оговорится и «пожалеет» юного Михаила:
«Признаюсь тебе в моей к тебе привязанности; я тебя любил бы, даже если бы ты был совсем безграмотным, любил бы именно за ясность твоей души и за стремление ко всему честному. Теперь же, когда я вижу, что ты вместе со мной увлекаешься писаниями греков и той гуманитарной литературой, которая вдохновляет на все прекрасное и полезное, то в моей душе утверждается такая день ото дня возрастающая любовь к тебе, что для меня нет в жизни ничего приятнее, как разговаривать с тобой…»
«Гуманитарная литература», за исключением «сицилийских шуток», становилась их прибежищем. Сама эпоха брожения российской культуры оказалась поэтичной. «Если бы можно было писать так же красиво, как мыслить!» – восклицал Сковорода и пытался вверить свои мысли символической строке стихотворения. А юность Ковалинского, как и юность вообще, требовала поэзии.
Переписка будет буквально наполнена стихами. Иногда даже ради версификаторства на бумагу ложились изящные строки:
Я зашел в гавань, прощайте, надежда и счастье!
Хватит вам мучить меня, играйтесь теперь с другими…
Из гомеровского стиха они будут переложены ямбом, затем «двойным размером» и «чередующимися строфами». Сковорода даже опасается, что «наделал ошибок», но тут же извиняет себя: «Лучшая ошибка та, которую делают в учении… А ошибки друзей мы должны исправлять или терпеть, если они не серьезны».
Сковорода исправлял. Однажды, еще в самом начале знакомства, подправил размер стихов, которые переслал ему юный Ковалинский. А следующим письмом пришлось спрашивать:
«Мой Михайло! Скажи мне искренно и откровенно, сердишься ли ты на меня или нет? Неужели ты потому не прислал мне ни одного письма, что я признал твои стихи несколько неотделанными? Наоборот, тем чаще их присылай. Ибо кто же сразу рождается артистом?..»
Терпения и усидчивости молодому человеку, к счастью, хватало. Может быть, даже излишне, если Сковороде в буквальном смысле приходилось осаживать юношу: не стоит столь усердно грызть гранит науки, иначе зубы сломаешь.
О здоровье своего друга Сковорода вообще справлялся очень часто. Если долго нет писем – уж не заболел ли; если вдруг не явился в училище – уж не простыл ли? По-дружески и вместе с тем по-отечески предупреждал его:
«Не слушай неосмотрительно случайных людей, что рекомендуют тебе то или другое лекарство. Ни в одной отрасли нет такого великого количества знатоков в народе, как в медицине, и нет ничего такого, про что народ бы так мало знал, как про лечение болезней. За исключением распространенных простых лекарств, отвергай все. Кровопусканий и слабительных избегай, как ядовитой змеи. И если хочешь, зайди ко мне, и мы с тобой об этом поговорим…»
Ранней простудной весной Сковорода писал Ковалинскому, что некогда Гален, второй после Гиппократа великий врач, советовал в весенние дни поменьше спать и есть холодную пищу, поскольку «из горячей пищи развивается излишняя влага», а отсюда насморк – отец всех болезней. Приводит в пример и Плутарха, который также писал о «влажных материях» в организме, где скапливаются нечистоты: «Огонь ищет только то место, где он чувствует присутствие нефти: так болезнь, всякая зараза и воспаление не могут пристать, когда тело прохладно, лишено слизи и наподобие пробки легко». Приводит в пример и Сократа, который среди чумы остался невредим потому, что привык к святому образу жизни, к простой и умеренной пище.
«Лечение ж в том, чтобы быть веселым и бодрым. Но мать этого есть трезвость… Не будет трезвым и тот, кто перегружает себя едой, хотя бы он и трезвенник. О, как я был глуп, что так навредил своему здоровью, поддавшись в молодом возрасте влиянию распущенных товарищей…»
«Пока ты соблюдаешь трезвость, – Сковорода выводит юношу „за пределы носового платка“, – у тебя сохраняются и здоровье, и стыдливость, и репутация. Тебя подстрекают к невоздержанности? Но ты отбрось порочный стыд и ответь отказом…»
Наряду с невоздержанностью порочна и чрезмерность, причем, даже в тех случаях, если речь идет о делах благородных, полезных. «Сохраняй меру в бдениях и трудах своих, – учит Ковалинского Сковорода, – и тогда приобретешь духовное, но берегись, как бы не убить то плотское, которое может привести тебя к божественному». Эту меру Сковорода объясняет очень просто: если человек в одну из ночей из-за неумеренных бдений повредит себе глаза, то как же он будет читать книги и беседовать со святыми? «Разве не дурак тот, кто в начале долгого пути не соблюдает меры в ходьбе? Несомненно, этот не дойдет до Иерусалима: болезнь или смерть прервет его путешествие…»
Рвение, не знающее меры, приводит к беде. Так, в отношении поста Сковорода спрашивает своего друга: не дурак ли тот, кто совсем ничего не дает телу и готов в своем рвении запостить себя до смерти? И отвечает: «Сокращай лишнюю пищу, чтобы не проявлялся твой необузданный осленок, то есть плоть, но, с другой стороны, не убивай его голодом, чтобы он мог нести седока». Прекрасные вещи, говорит Сковорода, без меры становятся дурными.
То же самое касалось, например, общения. «Ты избегаешь толпы? Сохраняй меру и в этом. Разве не дурак тот, кто избегает людей так, что совершенно с ними не говорит? Такой человек безумец, а не святой. Просто смотри, с кем говоришь и общаешься».
«Все в меру» – об этом божественном правиле душевного здоровья и спокойного миропорядка Сковорода рассказал своему другу уже в первых же письмах: «Излишество порождает пресыщение, пресыщение – скуку, скука ж – душевное смятение, а кто страдает этим, того нельзя назвать здоровым…»
Невоздержанность и чрезмерность являются для Сковороды своеобразными и философскими, и этическими категориями, теми самыми доказательствами от противного, на основе которых строится его учение о душевном здоровье, спокойствии и счастье. Легко написать – обуздай страсти, и нет ничего сложнее, чем выполнить это действие. Остановишь страсть внешне – она уйдет в глубину и будет точить ядовитой водой твои члены.
В письме к Ковалинскому от 23—26 января 1763 года (одно из моих любимых писем) об этом будет сказано особенно четко. Более того, сам стиль письма – суть метод философского творчества Сковороды, образчик будущих его трактатов и диалогов.
«Взойди на высокую башню и раскрой в своей душе то, что волнует чернь. Ты увидишь, что один страдает чесоткой, другой – лихорадкой, третий – подагрой, четвертый – эпилепсией, пятый – водянкой; у одного гниют зубы, у другого – внутренности; некоторые до того жалки, что кажется, будто они носят не тело, а живой труп. Я уже не буду говорить о более легком: о кашле, изнурении, зловонном дыхании и подобном. Из таких-то и состоит мир, то есть из прокаженных членов.
Если ты и видишь среди них людей со здоровым телом, то и эти последние принадлежат к тем, кого уже тайно поймали в сети…
Мы этих больных избегаем и правильно делаем: чтобы они не заразили нас своим прикосновением. Однако мы охотно продолжаем общаться с теми, которые до сих пор здоровы, но умы которых уже повреждены и напитаны ядовитыми учениями. Но мы не заболели бы телом, если бы не заболели ранее душой. Что пользы удаляться от нечистого и зловонного блудника, если общаешься с теми, кто отмечен духом блудодеяния…