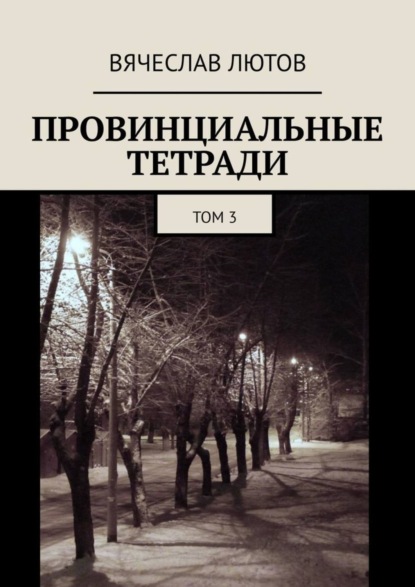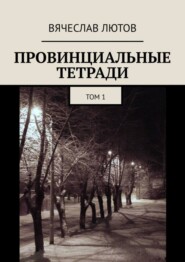По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Провинциальные тетради. Том 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Совсем телега, кроме колес», – скажет про таких Григорий Варсава и даже пригрозит, что сам бросит «нынешнее свое состояние» и станет последним горшечником, если почувствует, что жил и философствовал до сих пор «без природы», зато старательно замазывал склонность к низкому гончарству. То же касается и обычной дружбы, человеческих отношений, «связей». «Наше дело познать себя и справиться, с кем обращение иметь мы родились» – и, может быть, тогда станет понятно, что незачем было ходить за «стадами обезьян философских», вечно «зевающих на мирскую машину, но одну только глинку в ней видящих». Сковорода оговорится и посетует: «Хотя /ведь/ чувствовали, что как-то, что-то, чем-то, тайным каким-то ядом жжет и мятежит сердце их, но оно как неосязаемо, так и презираемо было». А дел-то всего ничего – бросить перо и лопату взять, завершить разговор и уйти из чужого дома…
«Нужно только познать себя, куда кто рожден. Лучше быть натуральным котом, нежели с ослиной природой львом…»
«Кто безобразит и растлевает всякую должность? Несродность. Кто умервщляет науки и художества? Несродность. Кто обесчестил чин священничий и монашеский? Несродность. Она каждому званию внутренний яд и убийца…»
«Природа и сродность означают врожденное Божие благоволение, тайный его закон, всю тварь управляющий, – говорит Сковорода своим друзьям. – Какое мучение трудиться в неподходящем для тебя деле». Это мучение становится настоящим пристанищем «беса уныния», который «в треск и мятеж душу обращает», наполняет смертной скукой, печалью и завистью и, наконец, ведет к «безобразным дел страшилищам и собственноручным себя убийствам».
Но кого бы из нас, покрытых блестящей пылью обыденного мира, устрашила такая перспектива? Кто бы взялся искать природу свою, когда даже не разумеем свои просьбы и молитвы? «Просим у Бога богатства, а не удовольствия, – сетует Сковорода, – великолепного стола, но не вкуса, мягкой постели, да не сладкого сна». Словно забыта пословица: не проси дождя, проси урожая.
Басни Харьковские
О пословицах Сковороде не впервой. К той же идее сродности Сковорода «приурочит» немало басен. Одна черепаха, к примеру, чья прабабка вздумала у орла учиться летать да разбилась насмерть, проклинала красоту полета: «Пропади оно летать». Пролетавший мимо орел бросил ей в сердцах:
– Слушай ты, дура! Не через то погибла твоя прабабка, что летала, но тем, что принялась не за свое дело.
Слишком проста истина для нашего сложного интеллектуального времени, слишком низка и простонародна. Хотя для интеллектуалов запишем в своих тетрадках: «Хочешь ли счастливым быть, будь сыт в своей доле», – говорит Сковорода. «Не желай ничего свыше своих сил», – скажет позднее Ф. Ницше. «Люби то, что тебе предназначено», – выведет формулу дивного нового мира О. Хаксли…
«В седьмом десятке нынешнего века, оставив учительскую должность и уединяясь в лежащих около Харькова лесах, полях, садах, селах, деревнях и пчельниках, обучал я себя добродетели и поучался в Библии; притом благопристойными игрушками забавляясь, написал полтора десятка басен… А сего года в селе Бабаи умножил оные до половины».
Таким письмом открывал в 1774 году Григорий Варсава свои «Басни харьковские», сборник «мудрых игрушек», которые должны были «таить в себе особую силу».
Обращение к «низкому жанру» не было для Сковороды зазорным. Напротив, он словно взялся доказать совершенно обратное – нет иного способа лучше донести до человека глубокий смысл вечных истин, мораль, символически выраженную в ясных и ощутимых образах и ситуациях. Для философа басня и библейская притча тождественны, да и на фоне морально-этических задач, стоящих перед ним, ему нет смысла рассуждать об особенностях жанра.
«Друг мой! Не презирай баснословия! Басня и притча есть то же. Не по кошельку суди сокровище, праведен суд суди. Басня тогда бывает скверна и бабья, когда в подлой и смешной своей шелухе не заключает зерно истины, похожа на орех пустой».
Этот «забавный и фигурный род писаний» был любим и древними философами, мудрецами, и учениками Христовыми, апостолами. Сковорода повторит это не раз и даже определит суть «метода»: «Мудрые и в игрушках умны и во лжи истинны. Истина их острому взору ясно, как в зеркале, представлялась, а они, увидев живо живой образ истины, уподобили ее различным телесным фигурам».
Лавр и зимой зелен; истина, заложенная в басне, не тускнеет и просторечная грязь к ней не прилипает…
Уже немало сковородинских басен было рассказано, рассыпано по нашему жизнеописанию. Обращение к басне – не просто выбор жанра, литературной формы. Бумага как благодатное поле, которое рождает и пшеницу, и рожь, и гречиху. Все произрастает из зерен священного писания; и это поле всю жизнь возделывал Сковорода. Все переплелось в его сочинениях: символический мир Библии и символический мир басни есть то же.
«Библия есть для Сковороды именно книга философских притч, символов и эмблем, некий иероглиф бытия», – писал в «Путях русского богословия» Г. Флоровский, определяя «перемешанный» философский мир Сковороды в «категориях платонизирующего символизма». О символизме как характерной особенности метафизики Сковороды говорили в своих очерках Д. Чижевский и В. Эрн. Немного сдержаннее на этот счет оказался В. Зеньковский – он хотя и признал наличие у Сковороды «символизма в онтологическом смысле», все же определил страсть философа к символам как «манеру мыслить», как особенности слога.
Впрочем, каковы бы ни были оценки, сам Сковорода смотрел на символизм именно как на особый мир, «тайнообразный мир», «маленький богообразный мир, или мирик». Он для философа являлся одной из бесспорных основ метафизики. В конце концов, библейский символизм, аллегоризм оформит систему «трех миров», которая войдет во все классические интерпретации творчества Сковороды.
«Первый /мир/ есть всеобщий и мир обитательный, где все рожденное обитает, – писал Сковорода в диалоге „Потоп змиин“. – Сей мир составлен из бесчисленных мир-миров и есть великий мир. Другие два суть частные и малые миры. Первый – микрокосм, сиречь мирик, мирок или человек. Второй мир символический, сиречь Библия. В ней собраны небесных, земных и преисподних тварей фигуры, дабы они были монументами, ведущими мысль нашу в понятие вечной натуры, утаенной в тленной так, как рисунок в красках своих…»
Сковорода и сам «рисует» Библию, и она меньше всего походит на книгу в кожаном переплете с медными застежками. Он ищет «фигуру Библии», и чаще всего называет ее Сфинксом, тайну которого и блаженную радость может узреть лишь познавший себя. В «Баснях харьковских» Библия предстает в образе спящего льва, вокруг которого носятся обезьяны – «восставшие идолопоклонничьи мудрецы» – носятся до первого львиного рыка.
«Библия есть завет, запечатлевший внутри себя мир божий… она как заключенный сундук сокровища, как жемчуга мать», – пишет Сковорода. А затем, вспоминая «предревних богословов», повторяет свою любимую мысль, говоря об их умении «невещественное естество божье изобразить тленными фигурами, дабы невидимое было видимым». Стоит ли удивляться, что сковородинское восприятие Библии было названо «системой кодов и знаков», а в его творчестве неизбежно определились «семиотические элементы».
Между тем, ограничиться лишь «семиотическими маркерами» на полях философского творчества Сковороды было бы ошибкой. По сути, аллегорический мир – это далеко не прихоть Григория Варсавы. Он семиотичен по определению – как семиотична сама эпоха. Отсутствие собственно философской терминологии, по словам В. Зеньковского, отчасти оправдывает Сковороду за его пристрастие к символам – роль научного термина в суматошную эпоху становления русской мысли могла сыграть лишь аллегория.
Вообще, ХVIII век исполнен символами повсеместно; религиозное, богословское, философское и даже «светское» мышление обращается с символами, как истопник с дровами – и чем больше, тем жарче. Пристрастие к знакам тревожило умы. Сам Сковорода, как пишет Ю. Барабаш, еще в юности прослушал в академии философский курс М. Козачинского, где был раздел «О знаках». Скорее всего, Сковорода был знаком и с «Миром символов» Пичинелли, и с петровским изданием «Символов и эмблем». К слову, большое количество «знаковой» литературы принес конец XVIII века с его тотальным увлечением «символичной философией» – хотя бы в виде «масонской культуры».
Как бы то ни было, символичный, «третий» мир Сковороды – это не издержки индивидуального творческого метода. Это особый «образ эпохи», ее голос, мантры, видения, угол зрения. Обойти этот мир стороной Сковорода не мог – как не смог, к примеру, обойти критику чистого разума русский философский Ренессанс…
Свитка и посох
История, как это ни парадоксально, не слишком бережно относится к судьбе человека, путает даты и факты, подчас стирает их подобно тому, как из памяти компьютера удаляют ненужные файлы и программы. Но образ человека, украшенный всевозможными байками и легендами, для нее все же ценен, притягателен. Биограф, призванный быть беспристрастным, и тот зачастую воспринимает судьбу своего героя импрессионистически. Что ж, в этом есть определенная красота – обычно-человеческая, по меньшей мере.
Во многих домах на Украине висели копии с портрета Сковороды. Вот он, с острым носом, темноволосый, со стрижкой «в кружок», под шапочку, с гладким, почти юношеским лицом, на котором нет ни одной морщины, словно художник нарочно задался целью не подпускать к Сковороде время. Неизменна в народном восприятии «атрибутика» Сковороды: посох странника, серая свитка, сапоги про запас, несколько подшивок работ, Библия, его «невеста», и флейта.
Странник – странный человек. Стоит ли удивляться, что имя Сковороды быстро обросло легендами, преданиями? Оно мифологизировалось – еще при жизни философа, – дополнилось новыми «фактами» и «деталями»; его примеривало массовое сознание к обычным ценностям обычной жизни.
Именно мифологическое сознание, переплетенное с «эротической прозой» человеческой жизни, попытается Григория Варсаву женить. И. Срезневский в своем рассказе «Майор, майор!», этом пыльном раритете начала Х1Х века, выписывая образ русского Сократа, приведет совершено романтическую историю любви. На одном из хуторов, будучи в гостях у некоего майора, Сковорода безумно влюбился в его дочь Елену и настолько потерял голову, что был готов немедленно жениться. Не смутило рассказчика даже то, что Григорию Варсаве к «моменту этой истории» шел уже пятый десяток – совсем не тот возраст, чтобы впадать в подростковый инфантилизм. Да и основные философские взгляды на мир и на вещи в эту пору у него сложились, и дочь майора в эту систему не вписывалась.
Развязка истории будет в духе романтических повестей Пушкина – невеста ждала Сковороду в церкви, а он в самую последнюю минуту сбежал из-под венца.
Не станем дополнительно опровергать самоочевидную нелепость этой истории. К тому же многие исследователи сделали подобное за нас, подчеркивая, что ни романтического аспекта, ни женщин в жизни Сковороды не было, что его жизненная энергия сублимировалась совсем в других формах. Но заметим другое. Бывальщина о женитьбе Сковороды оказалась весьма живучей – некоторые наши современники уже с полной уверенностью заявляют о ней как о биографическом факте и размещают свои «справки о жизни философа» в мировой паутине, подтверждая тем самым, что торжество мифологии над историей становится научно-романтической нормой нашего века.
О Сковороде рассказывали много интересных историй. Например, Г. П. Данилевский в «Украинской старине» пересказывает легенду о том, что Екатерина II, зная о философе, «дивилась его жизни, уважала его славу и однажды, чрез Потемкина, послала ему приглашение из Украины переселиться в столицу». Сковорода ответил в своем духе: «Свирель и овца дороже царского венца». По другой легенде, Григорий Варсава все же встретился с императрицей, но «говорил с дерзкой независимостью».
Молва знакомила или связывала Сковороду с разными известными людьми того времени. Например, со знамениты «пешеходцем» Василием Барским, который странствовал по миру четверть века, прошел Европу, Грецию, Египет, Сирию, долгое время жил на Афоне. Рассказывают, что когда он, больной и разбитый, вернулся в Киев и умер через месяц, на его похороны вышел весь город, в том числе и Сковорода.
Странник странника видит издалека…
«Мысли сердечные: они и не видны, как будто их нет, но от сей искры весь пожар, мятеж и сокрушение; от сего зерна зависит целое жизни нашей дерево», – говорит Сковорода, говорит в том числе и для биографа, который растерянно стоит перед последним двадцатилетием его жизни и не знает, о чем рассказать, как увеселить читателя красочными событиями, какую историю найти, чтобы расцветить серый в своем постоянстве движения образ странника.
Последние двадцать лет жизни философа – удивительно ровное время. Двадцать лет прожиты словно в один день. Здесь нет ничего внешне мятущегося, нет никакой сумятицы, никаких приключений. Нет и никаких впечатлений странника, которые можно было бы записать на бумагу. Это у Василия Барского были Иерусалим и Антиохия, Палестина и Афон, подобно тому, как у Афанасия Никитина были свои три моря. У Сковороды же – роща зелена, обычная хатка да жужжание пчел на пасеке. Нет ничего большого, величественного, ничего значительного и престижного, к чему так стремится турист-путешественник. Не это определяло суть его жизни.
«Сковорода считал себя пришельцем на земле в полном смысле этого слова, – говорил о своем друге М. Ковалинский и следом приводил сковородинскую географию. – В силу разных обстоятельств он жил у многих… постоянного жилища он не имел нигде… Полюбив Тевяшова, воронежского помещика, жил у него в селе и написал там сочинение „Икона Алкивиадская“, которое и посвятил ему в память о признательности своей к дому этому. Потом имел он пребывание в Бурлуках у Захаржевского, из-за приятных природных видов жил у Щербинина в Бабаях, у Ковалевского в Ивановке, у друга своего в Хотетове, некоторое время в монастырях Старо-Харьковском, Ахтырском, Сумском, Святогорском, Сеннянском и прочих».
Он живет также у Земборских в Гужвинском, у Сошальских в Гусинках, бывает в Китаевой пустыни близ Киева. «Его жизнь, – пишет биограф, – принимает вид постоянных переходов, хождений пешком за сотни верст и кратких отдыхов у немногих, которых он любил и которые гордились его посещениями».
Сердечные мысли и без того невидимы, чтобы их еще прятать за блестящими безделушками суетного мира. «Сковорода мог бы составить себе подарками порядочное состояние, – пишет еще один биограф философа В. Гесс де Кальве, и пишет, подчиняясь мирским интересам, печалясь за утраченные Сковородой возможности. – Но что бы ему не предлагали, сколько ни просили, он всегда отказывал, говоря – дайте неимущему, и сам довольствовался серой свитой».
«В крайней бедности, – продолжает В. Гесс де Кальве, – переходил Сковорода по Украине из одного дома в другой… Никто во всякое время года не видал его иначе, как пешим. Также малейший вид вознаграждения огорчал его душу… Он обыкновенно приставал к убогой хижине пасечника. Несколько книг составляли все его имущество».
Тихим было его пребывание у друзей. М. Ковалинский рассказывал, как Григорий Варсава гостил у Сошальских: «Усталый приходил он к престарелому пчелинцу, недалеко живущему на пасеке, брал с собой в сотоварищество любимого пса своего и трое, составя общество, разделяли они между собой «вечерю».
Странная жизнь странного человека. Чем занят, что делает? В одном из писем он подробно – и мы вслед за ним – ответит, словно пожелает раз и навсегда пресечь досужие разговоры и расспросы.
«Ангел мой хранитель ныне со мной веселится пустынею. Я к ней рожден. Старость, нищета, смирение, беспечность, незлобие суть мои в ней сожительницы. Я их люблю, и оне мене…
Недавно некто о мне спрашивал: скажите, что он там делает? Если б я в пустыне от телесных болезней лечился или оберегал пчел, или ловил зверя, тогда бы Сковорода казался им занят делом. А без сего думают, что я празднен и не без причины удивляются. Правда, что праздность тяжелее гор Кавказских.
Так только ли разве всего дела для человека: продавать, покупать, жениться, посягать, воевать, портняжить, строиться, ловить зверя? Здесь ли наше сердце неисходно всегда? Так вот же сейчас видна причина нашей бедности: погрузив все сердце наше в приобретение и в море телесных надобностей, мы не имеем времени вникнуть внутрь себя, очистить и поврачевать самую госпожу тыла нашего – душу нашу…
Не всем ли мы изобильны? Точно, всем и всяким добром телесным; одной только души нашей не имеем. Есть, правда, в нас и душа, но такова, как у шкробутика или подагрика ноги; она в нас расслаблена, грустна, своенравна, боязлива, завистлива, жадна, ничем недовольна, сама на себя гневна, тощая, бледная, точно пациент из лазарета, каковых часто живых погребают по указу. Такая душа если в бархат оделась, не гроб ли ей бархат? Если в светлых чертогах пирует, не ад ли ей?
Если /душа/ изныет и болит, кто или что увеселит ее? Ах, государь, плывите по морю и возводите очи к гавани. Не забудьте себя среди изобилий ваших. Не о едином хлебе жив будет человек. О сем последнем ангельском хлебе день и ночь печется Сковорода…»
Таков род его занятий. И если Сковороду, по словам Ковалинского, лишь немногие знали таким, какой он есть на самом деле, то глубину его работы чувствовали и связывали с уникальным русским явлением религиозной жизни – старчеством. Тот же И. Срезневский, напечатавший свою повесть в 1836 году в «Московском наблюдателе», «придумает» примечательный диалог:
– Что же, – спросил Сковороду майор, – ты хочешь век остаться бродягой?
– Бродягой – нет, – ответил Сковорода. – Я странствую, как и все, и старцем навсегда останусь; этот сан как раз по мне…
«Нужно только познать себя, куда кто рожден. Лучше быть натуральным котом, нежели с ослиной природой львом…»
«Кто безобразит и растлевает всякую должность? Несродность. Кто умервщляет науки и художества? Несродность. Кто обесчестил чин священничий и монашеский? Несродность. Она каждому званию внутренний яд и убийца…»
«Природа и сродность означают врожденное Божие благоволение, тайный его закон, всю тварь управляющий, – говорит Сковорода своим друзьям. – Какое мучение трудиться в неподходящем для тебя деле». Это мучение становится настоящим пристанищем «беса уныния», который «в треск и мятеж душу обращает», наполняет смертной скукой, печалью и завистью и, наконец, ведет к «безобразным дел страшилищам и собственноручным себя убийствам».
Но кого бы из нас, покрытых блестящей пылью обыденного мира, устрашила такая перспектива? Кто бы взялся искать природу свою, когда даже не разумеем свои просьбы и молитвы? «Просим у Бога богатства, а не удовольствия, – сетует Сковорода, – великолепного стола, но не вкуса, мягкой постели, да не сладкого сна». Словно забыта пословица: не проси дождя, проси урожая.
Басни Харьковские
О пословицах Сковороде не впервой. К той же идее сродности Сковорода «приурочит» немало басен. Одна черепаха, к примеру, чья прабабка вздумала у орла учиться летать да разбилась насмерть, проклинала красоту полета: «Пропади оно летать». Пролетавший мимо орел бросил ей в сердцах:
– Слушай ты, дура! Не через то погибла твоя прабабка, что летала, но тем, что принялась не за свое дело.
Слишком проста истина для нашего сложного интеллектуального времени, слишком низка и простонародна. Хотя для интеллектуалов запишем в своих тетрадках: «Хочешь ли счастливым быть, будь сыт в своей доле», – говорит Сковорода. «Не желай ничего свыше своих сил», – скажет позднее Ф. Ницше. «Люби то, что тебе предназначено», – выведет формулу дивного нового мира О. Хаксли…
«В седьмом десятке нынешнего века, оставив учительскую должность и уединяясь в лежащих около Харькова лесах, полях, садах, селах, деревнях и пчельниках, обучал я себя добродетели и поучался в Библии; притом благопристойными игрушками забавляясь, написал полтора десятка басен… А сего года в селе Бабаи умножил оные до половины».
Таким письмом открывал в 1774 году Григорий Варсава свои «Басни харьковские», сборник «мудрых игрушек», которые должны были «таить в себе особую силу».
Обращение к «низкому жанру» не было для Сковороды зазорным. Напротив, он словно взялся доказать совершенно обратное – нет иного способа лучше донести до человека глубокий смысл вечных истин, мораль, символически выраженную в ясных и ощутимых образах и ситуациях. Для философа басня и библейская притча тождественны, да и на фоне морально-этических задач, стоящих перед ним, ему нет смысла рассуждать об особенностях жанра.
«Друг мой! Не презирай баснословия! Басня и притча есть то же. Не по кошельку суди сокровище, праведен суд суди. Басня тогда бывает скверна и бабья, когда в подлой и смешной своей шелухе не заключает зерно истины, похожа на орех пустой».
Этот «забавный и фигурный род писаний» был любим и древними философами, мудрецами, и учениками Христовыми, апостолами. Сковорода повторит это не раз и даже определит суть «метода»: «Мудрые и в игрушках умны и во лжи истинны. Истина их острому взору ясно, как в зеркале, представлялась, а они, увидев живо живой образ истины, уподобили ее различным телесным фигурам».
Лавр и зимой зелен; истина, заложенная в басне, не тускнеет и просторечная грязь к ней не прилипает…
Уже немало сковородинских басен было рассказано, рассыпано по нашему жизнеописанию. Обращение к басне – не просто выбор жанра, литературной формы. Бумага как благодатное поле, которое рождает и пшеницу, и рожь, и гречиху. Все произрастает из зерен священного писания; и это поле всю жизнь возделывал Сковорода. Все переплелось в его сочинениях: символический мир Библии и символический мир басни есть то же.
«Библия есть для Сковороды именно книга философских притч, символов и эмблем, некий иероглиф бытия», – писал в «Путях русского богословия» Г. Флоровский, определяя «перемешанный» философский мир Сковороды в «категориях платонизирующего символизма». О символизме как характерной особенности метафизики Сковороды говорили в своих очерках Д. Чижевский и В. Эрн. Немного сдержаннее на этот счет оказался В. Зеньковский – он хотя и признал наличие у Сковороды «символизма в онтологическом смысле», все же определил страсть философа к символам как «манеру мыслить», как особенности слога.
Впрочем, каковы бы ни были оценки, сам Сковорода смотрел на символизм именно как на особый мир, «тайнообразный мир», «маленький богообразный мир, или мирик». Он для философа являлся одной из бесспорных основ метафизики. В конце концов, библейский символизм, аллегоризм оформит систему «трех миров», которая войдет во все классические интерпретации творчества Сковороды.
«Первый /мир/ есть всеобщий и мир обитательный, где все рожденное обитает, – писал Сковорода в диалоге „Потоп змиин“. – Сей мир составлен из бесчисленных мир-миров и есть великий мир. Другие два суть частные и малые миры. Первый – микрокосм, сиречь мирик, мирок или человек. Второй мир символический, сиречь Библия. В ней собраны небесных, земных и преисподних тварей фигуры, дабы они были монументами, ведущими мысль нашу в понятие вечной натуры, утаенной в тленной так, как рисунок в красках своих…»
Сковорода и сам «рисует» Библию, и она меньше всего походит на книгу в кожаном переплете с медными застежками. Он ищет «фигуру Библии», и чаще всего называет ее Сфинксом, тайну которого и блаженную радость может узреть лишь познавший себя. В «Баснях харьковских» Библия предстает в образе спящего льва, вокруг которого носятся обезьяны – «восставшие идолопоклонничьи мудрецы» – носятся до первого львиного рыка.
«Библия есть завет, запечатлевший внутри себя мир божий… она как заключенный сундук сокровища, как жемчуга мать», – пишет Сковорода. А затем, вспоминая «предревних богословов», повторяет свою любимую мысль, говоря об их умении «невещественное естество божье изобразить тленными фигурами, дабы невидимое было видимым». Стоит ли удивляться, что сковородинское восприятие Библии было названо «системой кодов и знаков», а в его творчестве неизбежно определились «семиотические элементы».
Между тем, ограничиться лишь «семиотическими маркерами» на полях философского творчества Сковороды было бы ошибкой. По сути, аллегорический мир – это далеко не прихоть Григория Варсавы. Он семиотичен по определению – как семиотична сама эпоха. Отсутствие собственно философской терминологии, по словам В. Зеньковского, отчасти оправдывает Сковороду за его пристрастие к символам – роль научного термина в суматошную эпоху становления русской мысли могла сыграть лишь аллегория.
Вообще, ХVIII век исполнен символами повсеместно; религиозное, богословское, философское и даже «светское» мышление обращается с символами, как истопник с дровами – и чем больше, тем жарче. Пристрастие к знакам тревожило умы. Сам Сковорода, как пишет Ю. Барабаш, еще в юности прослушал в академии философский курс М. Козачинского, где был раздел «О знаках». Скорее всего, Сковорода был знаком и с «Миром символов» Пичинелли, и с петровским изданием «Символов и эмблем». К слову, большое количество «знаковой» литературы принес конец XVIII века с его тотальным увлечением «символичной философией» – хотя бы в виде «масонской культуры».
Как бы то ни было, символичный, «третий» мир Сковороды – это не издержки индивидуального творческого метода. Это особый «образ эпохи», ее голос, мантры, видения, угол зрения. Обойти этот мир стороной Сковорода не мог – как не смог, к примеру, обойти критику чистого разума русский философский Ренессанс…
Свитка и посох
История, как это ни парадоксально, не слишком бережно относится к судьбе человека, путает даты и факты, подчас стирает их подобно тому, как из памяти компьютера удаляют ненужные файлы и программы. Но образ человека, украшенный всевозможными байками и легендами, для нее все же ценен, притягателен. Биограф, призванный быть беспристрастным, и тот зачастую воспринимает судьбу своего героя импрессионистически. Что ж, в этом есть определенная красота – обычно-человеческая, по меньшей мере.
Во многих домах на Украине висели копии с портрета Сковороды. Вот он, с острым носом, темноволосый, со стрижкой «в кружок», под шапочку, с гладким, почти юношеским лицом, на котором нет ни одной морщины, словно художник нарочно задался целью не подпускать к Сковороде время. Неизменна в народном восприятии «атрибутика» Сковороды: посох странника, серая свитка, сапоги про запас, несколько подшивок работ, Библия, его «невеста», и флейта.
Странник – странный человек. Стоит ли удивляться, что имя Сковороды быстро обросло легендами, преданиями? Оно мифологизировалось – еще при жизни философа, – дополнилось новыми «фактами» и «деталями»; его примеривало массовое сознание к обычным ценностям обычной жизни.
Именно мифологическое сознание, переплетенное с «эротической прозой» человеческой жизни, попытается Григория Варсаву женить. И. Срезневский в своем рассказе «Майор, майор!», этом пыльном раритете начала Х1Х века, выписывая образ русского Сократа, приведет совершено романтическую историю любви. На одном из хуторов, будучи в гостях у некоего майора, Сковорода безумно влюбился в его дочь Елену и настолько потерял голову, что был готов немедленно жениться. Не смутило рассказчика даже то, что Григорию Варсаве к «моменту этой истории» шел уже пятый десяток – совсем не тот возраст, чтобы впадать в подростковый инфантилизм. Да и основные философские взгляды на мир и на вещи в эту пору у него сложились, и дочь майора в эту систему не вписывалась.
Развязка истории будет в духе романтических повестей Пушкина – невеста ждала Сковороду в церкви, а он в самую последнюю минуту сбежал из-под венца.
Не станем дополнительно опровергать самоочевидную нелепость этой истории. К тому же многие исследователи сделали подобное за нас, подчеркивая, что ни романтического аспекта, ни женщин в жизни Сковороды не было, что его жизненная энергия сублимировалась совсем в других формах. Но заметим другое. Бывальщина о женитьбе Сковороды оказалась весьма живучей – некоторые наши современники уже с полной уверенностью заявляют о ней как о биографическом факте и размещают свои «справки о жизни философа» в мировой паутине, подтверждая тем самым, что торжество мифологии над историей становится научно-романтической нормой нашего века.
О Сковороде рассказывали много интересных историй. Например, Г. П. Данилевский в «Украинской старине» пересказывает легенду о том, что Екатерина II, зная о философе, «дивилась его жизни, уважала его славу и однажды, чрез Потемкина, послала ему приглашение из Украины переселиться в столицу». Сковорода ответил в своем духе: «Свирель и овца дороже царского венца». По другой легенде, Григорий Варсава все же встретился с императрицей, но «говорил с дерзкой независимостью».
Молва знакомила или связывала Сковороду с разными известными людьми того времени. Например, со знамениты «пешеходцем» Василием Барским, который странствовал по миру четверть века, прошел Европу, Грецию, Египет, Сирию, долгое время жил на Афоне. Рассказывают, что когда он, больной и разбитый, вернулся в Киев и умер через месяц, на его похороны вышел весь город, в том числе и Сковорода.
Странник странника видит издалека…
«Мысли сердечные: они и не видны, как будто их нет, но от сей искры весь пожар, мятеж и сокрушение; от сего зерна зависит целое жизни нашей дерево», – говорит Сковорода, говорит в том числе и для биографа, который растерянно стоит перед последним двадцатилетием его жизни и не знает, о чем рассказать, как увеселить читателя красочными событиями, какую историю найти, чтобы расцветить серый в своем постоянстве движения образ странника.
Последние двадцать лет жизни философа – удивительно ровное время. Двадцать лет прожиты словно в один день. Здесь нет ничего внешне мятущегося, нет никакой сумятицы, никаких приключений. Нет и никаких впечатлений странника, которые можно было бы записать на бумагу. Это у Василия Барского были Иерусалим и Антиохия, Палестина и Афон, подобно тому, как у Афанасия Никитина были свои три моря. У Сковороды же – роща зелена, обычная хатка да жужжание пчел на пасеке. Нет ничего большого, величественного, ничего значительного и престижного, к чему так стремится турист-путешественник. Не это определяло суть его жизни.
«Сковорода считал себя пришельцем на земле в полном смысле этого слова, – говорил о своем друге М. Ковалинский и следом приводил сковородинскую географию. – В силу разных обстоятельств он жил у многих… постоянного жилища он не имел нигде… Полюбив Тевяшова, воронежского помещика, жил у него в селе и написал там сочинение „Икона Алкивиадская“, которое и посвятил ему в память о признательности своей к дому этому. Потом имел он пребывание в Бурлуках у Захаржевского, из-за приятных природных видов жил у Щербинина в Бабаях, у Ковалевского в Ивановке, у друга своего в Хотетове, некоторое время в монастырях Старо-Харьковском, Ахтырском, Сумском, Святогорском, Сеннянском и прочих».
Он живет также у Земборских в Гужвинском, у Сошальских в Гусинках, бывает в Китаевой пустыни близ Киева. «Его жизнь, – пишет биограф, – принимает вид постоянных переходов, хождений пешком за сотни верст и кратких отдыхов у немногих, которых он любил и которые гордились его посещениями».
Сердечные мысли и без того невидимы, чтобы их еще прятать за блестящими безделушками суетного мира. «Сковорода мог бы составить себе подарками порядочное состояние, – пишет еще один биограф философа В. Гесс де Кальве, и пишет, подчиняясь мирским интересам, печалясь за утраченные Сковородой возможности. – Но что бы ему не предлагали, сколько ни просили, он всегда отказывал, говоря – дайте неимущему, и сам довольствовался серой свитой».
«В крайней бедности, – продолжает В. Гесс де Кальве, – переходил Сковорода по Украине из одного дома в другой… Никто во всякое время года не видал его иначе, как пешим. Также малейший вид вознаграждения огорчал его душу… Он обыкновенно приставал к убогой хижине пасечника. Несколько книг составляли все его имущество».
Тихим было его пребывание у друзей. М. Ковалинский рассказывал, как Григорий Варсава гостил у Сошальских: «Усталый приходил он к престарелому пчелинцу, недалеко живущему на пасеке, брал с собой в сотоварищество любимого пса своего и трое, составя общество, разделяли они между собой «вечерю».
Странная жизнь странного человека. Чем занят, что делает? В одном из писем он подробно – и мы вслед за ним – ответит, словно пожелает раз и навсегда пресечь досужие разговоры и расспросы.
«Ангел мой хранитель ныне со мной веселится пустынею. Я к ней рожден. Старость, нищета, смирение, беспечность, незлобие суть мои в ней сожительницы. Я их люблю, и оне мене…
Недавно некто о мне спрашивал: скажите, что он там делает? Если б я в пустыне от телесных болезней лечился или оберегал пчел, или ловил зверя, тогда бы Сковорода казался им занят делом. А без сего думают, что я празднен и не без причины удивляются. Правда, что праздность тяжелее гор Кавказских.
Так только ли разве всего дела для человека: продавать, покупать, жениться, посягать, воевать, портняжить, строиться, ловить зверя? Здесь ли наше сердце неисходно всегда? Так вот же сейчас видна причина нашей бедности: погрузив все сердце наше в приобретение и в море телесных надобностей, мы не имеем времени вникнуть внутрь себя, очистить и поврачевать самую госпожу тыла нашего – душу нашу…
Не всем ли мы изобильны? Точно, всем и всяким добром телесным; одной только души нашей не имеем. Есть, правда, в нас и душа, но такова, как у шкробутика или подагрика ноги; она в нас расслаблена, грустна, своенравна, боязлива, завистлива, жадна, ничем недовольна, сама на себя гневна, тощая, бледная, точно пациент из лазарета, каковых часто живых погребают по указу. Такая душа если в бархат оделась, не гроб ли ей бархат? Если в светлых чертогах пирует, не ад ли ей?
Если /душа/ изныет и болит, кто или что увеселит ее? Ах, государь, плывите по морю и возводите очи к гавани. Не забудьте себя среди изобилий ваших. Не о едином хлебе жив будет человек. О сем последнем ангельском хлебе день и ночь печется Сковорода…»
Таков род его занятий. И если Сковороду, по словам Ковалинского, лишь немногие знали таким, какой он есть на самом деле, то глубину его работы чувствовали и связывали с уникальным русским явлением религиозной жизни – старчеством. Тот же И. Срезневский, напечатавший свою повесть в 1836 году в «Московском наблюдателе», «придумает» примечательный диалог:
– Что же, – спросил Сковороду майор, – ты хочешь век остаться бродягой?
– Бродягой – нет, – ответил Сковорода. – Я странствую, как и все, и старцем навсегда останусь; этот сан как раз по мне…