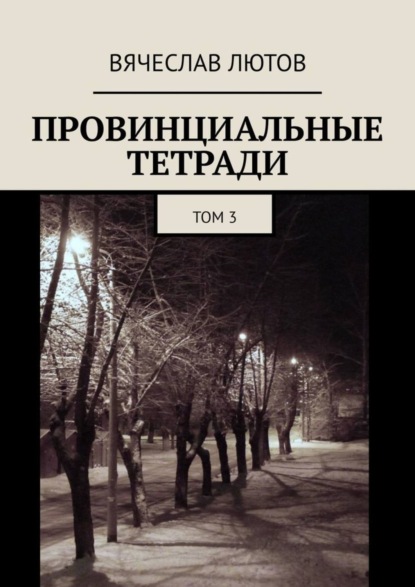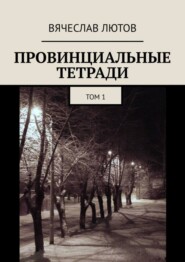По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Провинциальные тетради. Том 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
О трагедии писали многие русские мыслители – философ, как и поэт, должен быть «положительно несчастлив». О счастье – лишь единицы, и первым – Сковорода. Писал, борясь с червем неусыпным, с бесом тоски, что точит сердце, как вода камень, что выворачивает душу и выжигает ее адским пламенем.
Вся философия Сковороды – апология счастья, ода счастью, молитва о счастье.
Счастье – не философская категория. Хотя, к слову, бесконечная категорийность научных трудов еще не является свидетельством подлинного философского мышления. Счастье не укладывается в сетку понятий, оно хаотично, оно эмоционально; подчас это дрожжи, на котором поднимается тесто наших умозаключений и стереотипов. Родись счастливым – и разве нужна тебе будет «наука о счастье»?
Примечательно, но в своем «Очерке развития русской философии» Густав Шпет отказал Сковороде в «звании философа» именно по этой причине – еще можно «стерпеть» счастье как предмет морали, как дань эвдемонистической античной традиции, но только не как предмет философии. «Сковорода от начала до конца моралист, – пишет Г. Шпет. – Не наука и не философия, как таковая, владеют его помыслами, а лишь искание для себя и указание другим пути, ведущего к счастью и блаженству… Вся мнимая философичность Сковороды – лишь пристройка к „самонужнейшей науке“ о счастье».
И все же…
Как-то Сковороду спросили, что есть философия?
– Главная цель человеческой жизни, – ответил Сковорода. – Глава дел человеческих есть его дух, мысли, сердце. Всякий имеет свою цель в жизни, но не всякий главную цель. Иной занимается чревом жизни, то есть все дела свои направляет, чтобы дать жизнь чреву; иной – очам; иной – волосам; иной – одеждам и прочим бездушным вещам. Философия, или любомудрие, устремляет весь круг своих дел на то, чтобы дать жизнь нашему духу, благородство сердцу, свет мыслям, как главе всего. Когда дух в человеке весел, мысли спокойны, сердце мирно, то все светло, счастливо и блаженно. Это есть философия.
Современный мыслитель, читатель, воспитанный на совершенно иных философских категориях, вряд ли примирится с подобным вольным определением и еще добавит при этом, что защищать философию Сковороды – это удел панегиристов. Между тем, в сковородинской «теории счастья», как выступает с защитной речью Ю. Барабаш, переплелись основные принципы античной философии и этики: сократовское и платоновское самоограничение, аристотелевское умение управлять страстями, стремление стоиков к согласию с природой, презрение киников к «житейскому дыму» и нормам расхожей морали. Спорить же о том, философична ли этика или этична философия, мы не будем – не этот терминологический спор является благодатным дождем, помогающим прорасти зерну мысли.
Не поможет и «спор» между Афинами и Иерусалимом. У Сковороды языческая античность и новое христианство переплетены, смешаны, истолчены в ступке; под «древними мудрецами» у него спрятаны многие – и не идут крестовым походом друг против друга.
Подчас Сковорода делает совершенно неожиданные отождествления. Так, своей 30-й песней, произросшей из древнего стиха: «Наслаждайся днями своими, ибо все вмале стареет», он многих поставит в тупик:
Хочешь ли жить в сласти? Не завидь нигде.
Будь сыт с малой части, не бойся везде.
Плюнь на гробные прахи и на детские страхи;
Покой – смерть, не вред.
Так живал афинейский, так живал и еврейский
Эпикур – Христос…
В философской защите нуждался не только Сковорода. Воскрешенный им и отождествленный с Христом «духовный отец эпикурейства», ставший в расхожих стереотипах проповедником плотских наслаждений, низменных страстей и сластолюбия, был не понят в том же парадоксальном смысле, что и сковородинский Нарцисс. «Силу слова сего люди не раскусив во всех веках и народах, обесславили Эпикура за сладость и почли самого его пастырем стада свиного», – сетует Сковорода и каждый раз возвращается к «Письму к Менекею», подчеркивая, что «начало всего и величайшее благо есть благоразумие, а не удовольствие распутников». К попойкам, кутежам и оргиям Эпикур Григория Варсавы столь же близок, как Земля к Веге или Сириусу. Но мы упорно продолжаем видеть внешний холодный свет и думать, что этого достаточно для познания вселенной.
Сковороде не нужны Эпикур и Нарцисс кисти ученого-примитивиста; и в «шаблонного», «вымаранного из живой жизни» Христа Григорий Варсава тоже не верит. Его угнетают фальшивые ноты, его прижимает к земле дисгармония мира, которая стала следствием того, что человек в бесконечной какофонии суетных дней утратил способность слышать глубинные созвучия и самому быть созвучным природной и божественной глубине.
«Счастье! Где ты живешь? Мудрые, скажите!..» – спрашивал Григорий Варсава, но не чаялся услышать ответа. На бумагу ложились грустные строки: «Счастья нет на земле, счастья нет в небе». Где искать его, в каком углу оно заключилось, на какой вершине в недоступности спряталось, появится ли, покажется?
Он словно лукавит – разве могли дать ему ответ просторечные суматошные дни или безжизненная книжная ученость? Но сам в глубине знает, что «всем человеческим затеям выйдет один конец – радость сердца». Ее и ищет, ибо что еще искать, и говорит с уставшими путниками об истинном счастье в жизни.
«Не диковина дорогу сыскать, но никто не хочет искать». Мы подчас так сильно тоскуем о счастье, что, выжатые этой тоской, не желаем найти даже тропинки к нему, довольствуемся зыбкой тенью счастья – и радуемся тому скудной радостью. В наш адрес сковородинский упрек, что мы не в силах даже помыслить: а, собственно, какое нам нужно счастье, что оно есть из себя – груда ли сверкающего железа, или неуемный пир в ресторации, или мягкое кресло перед телевизором, или покой душевный и тихая гавань. «Сперва узнай все то, в чем истинное счастье не состоит, – учит Сковорода, – а, перешаривши пустые закоулки, скорее доберешься туда, где оно обитает». Вот только узнавать, перешаривать лень, и человек кружится оторванным календарным листом или бродит в темноте наугад – вдруг набредет на счастливую обитель? Стоит ли удивляться, что натыкается лишь на рогатки?
«Скажи пожалуйста, не вздор ли и не сумасбродство ли, что человек печалится о драгоценнейшем венце? А на что? На то, будто в простой шапке нельзя наслаждаться счастливым и всемирным светом…»
«Безумный муж со злою женой выходит вон из дома своего, ищет счастья себе, бродит по разным званиям, достает блистающее имя, обвешивается светлым платьем, протягивает разновидную сволочь золотой монеты и серебряной посуды, находит друзей и безумия товарищей, чтоб занести в душу луч блаженного светила и светлого блаженства. Есть ли свет? Смотрят – ничего нет…»
«Взгляни на волнующееся море, на многомятежную во всяком веке, стороне и статье толпу, так называемую мир, или свет; чего он не делает? Воюется, тяжбы водит, коварничает, заботится, затевает, строит, разоряет, кручинится, тенит. Есть ли свет? Смотрят – ничего нет…»
Григорий Варсава повторится, и сделает это еще не раз: «Ищем счастья по сторонам, по векам, по статьям, а оное есть везде и всегда с нами; как рыба в воде, так мы в нем, а оно около нас ищет самих нас. Нет его нигде, затем что есть везде. Оно же подобно солнечному сиянию: отвори только вход ему в душу свою…»
И ведь кажется – нет ничего проще. Нет ничего проще выйти из мрачной платоновской пещеры с вечно бегущими тенями на холодной стене и больше в нее уже никогда не возвращаться; нет ничего проще в бетонном городском кармане распахнуть настежь окна свежему ветру.
Беседуя с путниками, Григорий расскажет свою «платоновскую сказку», басенку. Жили-были дед да баба. Сделали они себе хатку, да не прорубили в ней ни одного окошка. Невеселая вышла хата. По долгом размышлении решили они свет доставать. Взяли мех, разинули его в самый полдень перед солнцем, чтобы набрать, будто муки, и внести в хатку. Попробовали раз-другой – нет света. Решила бабка, что мех дырявый, и свет из него вытекает, и надобно проворнее и быстрее в дом бежать. В дверях с дедом и зашиблась.
Благо, на тот случай проходил мимо странный монах. «Он имел от роду только 50, но в сообщении света был великий хитрец». Не стал он «секретной пользы утаивать» и посоветовал взять топор и прорубить окошко.
– Целый свет не видел столько бестолковых, как твои дед да бабка! – воскликнет в ответ один из путников. Впрочем, кто бы сомневался…
«Великий хитрец в сообщении света», Григорий Варсава не ограничится «счастьем извне», которое входит в человеческую душу, подобно солнечному лучу. Для Сковороды очевидно, что счастье мало «поймать», его нужно «принять», чтобы оно произросло изнутри. «Зачем мне гоняться за счастьем, – скажет он, – когда оно у меня за пазухою… дома». «Наше истинное счастье… живет во внутреннем сердца нашего мире, а мир в согласии с Богом; чем кто согласнее, тем блаженнее».
«Местоположение» сковородинского счастья сродни «искре божьей» и потаенному «истинному человеку», что «один во всех нас и в каждом целый». Такое толкование, по словам В. Зеньковского, вполне можно принять за «феноменальность человеческого бытия». Впрочем, феноменологических параллелей можно приводить много, да и сам Сковорода с его пренебрежением к «телесному болвану» человека эмпирического и «буклям и кудрям» эмпирического же счастья дает тому немало поводов.
Сковорода каждый раз, в каждом своем диалоге уводит своих путников в глубь человека. Иной ракурс ему просто не интересен. Это путешествие за счастьем не имеет ничего общего с расхожими школьными представлениями – в виде ищущих счастья и не нашедших его некрасовских мужичков, отчасти лубочных, отчасти русских. В своем поиске счастья Сковорода восходит к классическому библейскому сюжету – притче о блудном сыне – и многочисленным его интерпретациям. Выбор более чем показательный: герои Сковороды не столько ищут счастья, идут за счастьем, сколько возвращаются к нему, обретая утраченное.
«Путник, обходя разные земли и государства, лишился ног, – рассказывает Григорий своим собеседникам еще одну поучительную и диковинную историю. – Тут пришло ему на мысль возвратиться в дом к отцу своему, куда он, опираясь руками, с превеликим трудом продолжал обратный путь свой. Наконец, доползши до горы, с которой виден уже был ему дом отца, лишился совсем и рук…» Так и остался бы он между камней мучительно и жадно взирать на благословенный и счастливый край. Но тут он увидел слепца, который шел еле-еле, постоянно сбиваясь с дороги. Разговорились. Слепец тоже излазил полсвета, да счастья так и не нашел, и теперь возвращался к отцу – наугад, в вечной темноте, по наитию. Узнали тогда оба, что они братья. Тогда слепой посадил на шею зрячего, но безрукого-безногого – и зашагал небывалый путник, из двух в одно составленный, к родному порогу…
Можно видеть счастье, но никогда не достичь его, взирая с завистью со стороны, подглядывая за ним в замочную скважину. Можно искать счастье, но никогда не найти дороги к нему. Такова суть рассказанной истории. И все дальнейшее повествование Сковороды есть попытка освободить человека от тщетных, скверных, бессмысленных и пустых желаний и оставить его с руками, ногами и глазами в счастливом краю, из которого, по светской глупости своей, он так пытается выбраться.
Но не дорожат дети мира своими чреслами и ищут разумом не истину, а все новые оправдания своих суетных страстей. И преуспели в этом изрядно. Библейский слог как старый лоскут, и ему не находится места среди модной современной пустологии, блестящей, суматошной, жаждущей крови, прописавшейся в телевизионной сетке, прибравшей к рукам воинствующие племена поэтов, писателей и философов, готовых создать какие угодно стереотипы и «правильные формулы».
Впрочем, и эта печаль биографа, перешагнувшего в электронный век, достаточно стара, как стара еще одна история, рассказанная Сковородой в «Разговоре пяти путников об истинном счастье в жизни».
Пять путников пришли в царство любви и мира, где нет ничего тленного, но все вечное, где нет ни болезни, ни печали, ни вздыхания. Прошли они под прекрасной радугой, вышли к ним навстречу великим множеством бессмертные жители. Скинули с путников все ветхое и одели в новое тело и одежды. Сели странники у трапезы с ангельскими хлебами и новым вином. Но не веселы среди веселья были путники – некая тайная горесть сердца их угрызала. Отвели их к царю.
– Я прежде прошения вашего знаю ваши жалобы, – сказал он. – Вы сами горесть свою занесли сюда из враждебных земель…
Эта история, столь похожая на «Новую Атлантиду» Ф. Бэкона, была рассказана с одной целью. «Ах бедное наше знаньице и понятьице! – восклицает Сковорода. – Откуда эти бесы вселились в сердца наши?» И отвечает сам себе: «Враги твои суть собственные твои мнения, воцарившиеся в сердце твоем и всеминутно его мучающие».
«Человек – извечная жертва своих же собственных истин. Раз приняв их, он уже не в состоянии от них отказаться», – напишет спустя полтора века один из апологетов экзистенциализма А. Камю. Мир живет обманом и слепыми надеждами. Все силы и цвет человека уходят на «добывание условий» для счастливой жизни, и в этой охоте счастье забывается, теряется, уходит. И вот, на руинах своей биографии, «человек понимает, что провел столько лет лишь для того, чтобы удостовериться в одной-единственной истине» – ему не уйти от времени, которому, собственно, глубоко безразлично: был человек счастлив или нет. Выбора не остается – такова главная печаль и тоска философии ХХ века, вынужденной жить с ницшеанским знанием о том, что «бог умер», «бога нет», и спасать человека некому.
У Сковороды этой смертной экзистенциальной скуки нет, он еще полон решимости указать счастливый путь, он еще уверен, что святая Библия остается «врачебным домом», в котором особым спиртом – евхаристией – лечат горесть человеческого сердца. «Счастье наше есть мир душевный», – пишет он и готов выстроить этот мир заново, собрать все его счастливые крупицы. «Вседражайший сердечный мир подобен самым драгоценным камушкам: одна крошечка цену имеет, если станем его одну каплю щадить, тогда сможем со временем иметь целую чашу спасения».
И все же, всматриваясь в свой век, который жил идеалами прогресса и ел просвещением, он с иронией и грустью напишет: «Мы измерили море, землю, воздух и небеса; мы обеспокоили недра земные ради металлов, нашли несчетное множество миров, строим непонятные машины… Что ни день, то новые опыты и дивные изобретения. Чего только мы ни умеем, чего ни можем! Но то горе, что при всем том чего-то великого недостает…»
За букварем мира
Начало 1770-х годов – счастливая пора в жизни Сковороды, удивительная, как говорит об этом биограф. Философ живет в мирной тишине и уединении у друзей – в частности, у Степана Тевяшова в Острогожске. Острогожское лето 1772 года окажется самым плодотворным – Сковорода напишет шесть философских сочинений, в том числе и «Разговор пяти путников». «Он полон творческой энергии, – пишет Ю. Барабаш, – ему есть что сказать, и он словно торопится выговориться… Это пора жизненной зрелости, какой-то особенной внутренней раскрепощенности, душевного равновесия, расцвета».
В 1775 году отзвуком острогожского лета попадет к Тевяшову-сыну переписанный набело «Разговор, называемый Алфавит, или Букварь мира». Этот «дружеский разговор о душевном мире» не только подытожит пятидесятилетие жизни Григория Варсавы, но и станет центральной частью его этики. Метафизика человека, в которую со всей страстью исследователя, искателя окунулся Сковорода, привела его к «тайному закону человеческого возрастания» – тот, кто живет в несогласии со своей природой и не чувствует в делах своих «сродности», обречен на страдания и муки, на вечную тоску по душевному покою, на испепеляющий пламень суетного эмпирического мира.
Сковорода не просто чувствует важность этой идеи. Наряду с самопознанием и идеей «разделения натур» он делает понятие «сродности» краеугольным камнем своей философии. Он также понимает, что поиск «душевного мира» несравнимо шире «счастья».
Сковорода даже меняет тон диалога – здесь уже нет случайных слушателей, которым нужно что-то доказывать, «втемяшивать», чем-то удивлять, подчас резко осаживать. И это правильно: нет смысла спорить о душевном мире – о нем можно лишь тихо говорить с близкими друзьями. К слову, за собеседниками Григория в диалоге стоят его острогожские друзья: Афанасий Панков и Яков Долганский. Поэтому мысль Сковороды не прячется в одном «личном» персонаже, как это было прежде, а разливается по всем. Он даже доверяет высказать свой прежний «полемический» опыт Якову, которому, как когда-то Сковороде, «довелось побывать в гостях и напасть там на шайку ученых», что при бутылках и стаканах «разожгли диспут»: какая наука лучше, какое вино полезнее, кто «погубил республику Афинскую», пока, наконец, не «наврали много о богине Минерве».
– Я не мог ничего понять и никакого вкуса не почувствовал, – признается «слушатель академиков». – А в любезной моей книжечке, которую всегда с собой ношу, недавно вычитал, что счастье не от наук, не от чинов, не от богатства, но единственно зависит оттуда, чтобы охотно отдаться на волю божью…
Это был повод – и весьма основательный – для серьезного и неспешного разговора.
Так легко покориться суетной обыденности, блаженно качаться на ее волнах, гибнуть в ее ураганах, жить с оглядкой на «среду» и печалиться затем, что «среда заела». Мы покорны стереотипам и сиюминутной выгоде, мы несем крест и тянем лямку. И в этом шумном, но немом «прохождении жизни» даже не подпускаем к себе мысль, что покоряемся совсем не тому, чему следовало бы, что единственное достойное человека смирение есть покорность «тайным законам» нашего духа. Этика Сковороды, по словам В. Зеньковского, вполне могла бы стать апологией этой покорности.
«Чем кто согласнее с Богом, тем мирнее и счастливее», – повторит в который раз Сковорода. Он же и определит, что это значит – «жить по натуре», не избирать вместо прозорливой или божественной натуры себе путеводительницей скотскую и слепую. «Природа есть первоначальная всему причина и самодвижущаяся пружина… Природа зажигает к делу и укрепляет в труде, делая труд сладким».
Отсюда своеобразный сковородинский «прагматизм» – зачем хвататься за какую-нибудь должность, место, звание, дело, не зная, будешь ли в этом счастливым? Зачем превращать счастье работы в тягло, повинность – лишь по незнанию своему, по нежеланию заглянуть в себя и услышать голос глубокой и богообразной природы своей. «По сей-то причине искушенный врач неудачно лечит. Знающий учитель без успеха учит. Ученый проповедник без вкуса говорит. С приписью подьячий без правды правду пишет. Перевравший Библию студент без соли вкушает. Во всех сих всегда недостает нечто». Недостает «сродности», «сердца», живой искры.